Золотое колесо - [37]
Могель, который тоже так считал, не возразил. А Мазакуаль подумала, только сказать не могла: «Показала бы тебе, какая я дворняга, доберись до твоего курятника!» Могель устроился сзади, загнав птиц под сиденье. Собака притихла в ногах. Ехали быстро. За окном, кстати, уже давно буйствовала диковинная природа, и сладостный аромат врывался в открытые окна автобуса.
— Это Сухум? — спросил осторожно Могель, потому что за окном было нечто, подобное городу.
— Гульрипш, слушай, Гульрипш, — объяснил водитель.
Там на площади шел митинг. Те же флаги и транспаранты, те же надрывные голоса ораторов с трибуны. Все это примелькалось уже дома.
— Доведут они нас, — вздохнул старик, сидевший рядом с Могелем. Что имеем, тоже потеряем.
— Как Жордания[25] не добился прошлой эртобы, так и эту эртобу не даст Россия провести, — поддержал старика другой старик. — Только зря погубят молодежь.
Могель сейчас был почти согласен со стариками, несмотря на то что его самого в деревне записывали в «Общество Ильи Праведного»[26], переименованная в декабре 1988 г. в «Общество святого Ильи Праведного») и Хельсинкскую группу, с условием, что его присутствия на собраниях не потребуется.
Но на слова стариков тут же включились женщины и поднялся гвалт.
Только спору не суждено было продолжаться: в салоне оказались абхазы.
— У абхазского князя… — начал было один из абхазов, но спутник одернул его со словами:
— Сказал же Имярекба, что пока надо терпеть.
Ощущая собаку и птиц в ногах, Могель озирался по сторонам. Все эти разговоры ему были неинтересны. Ехали берегом моря. Но напряжение чувствовалось. Его невозможно было не заметить. Сам воздух был начинен напряжением.
Въехали в столицу. Уже темнело. Электричество горело, но настолько слабое, что свет из окон был тускл, как от керосиновых ламп. И никакого городского освещения. Автобус то и дело останавливался и постепенно пустел. Огромная тоска объяла Могеля.
Когда водитель объявил, что приехали, что уже центр города, Могель удивился. Центр был совершенно пуст и безлюден. Он извлек из сумы адрес брата и обратился к соседу. При этом его голос уже был готов сорваться на плач. Пассажир объяснил, как найти нужный дом.
— А за багаж кто будет платить? — заявил при выходе водитель.
— Какой еще багаж? — возмутился Могель, но часть багажа, то есть собака, притерлась к нему, предлагая не спорить. Могель отдал шоферу двойную плату.
Ему хотелось еще раз уточнить адрес. Редкие прохожие были то ли неприветливы, то ли напуганы. Но многоквартирку, где жил Энгештер, он все-таки нашел. Квартира брата была расположена на первом этаже. На двери на меди была выгравирована родная фамилия Могеля и брата. Но Могель пребывал в таком подавленном настроении, что постучаться не хватило духу.
Он уселся на ступени лестницы около двери, громко оплакивая свою судьбу.
пел он, подпирая щеку то правой, то левой ладонью в зависимости от того, куда склонялась голова в такт песни и тоски. Птицы были тут, а Мазакуаль уже убежала, наверное, чтобы изучить окрестности на предмет наличия птичьего двора.
У подъезда остановилась иномарка, уже знакомая Могелю. Хозяин машины приспустил стекло, и холодный его взгляд, как тень, на мгновение упал на Могеля, но не узнал его. Машина бесшумно отъехала. Могель продолжал причитать. Он еще вспомнил крестьянскую байку о красавице гречанке, которая помогла Матуте бежать от органов в день суда.
Наконец открылась дверь, — что была напротив двери брата.
— Ты к кому, парень?
Могель проворно вскочил и ответил.
— Почему не позвонил? — сказал сосед и сам позвонил в дверь. — Фина, к вам гость, — крикнул он в дверь, когда за ней послышалось шарканье мягких домашних туфель.
— Минуточку, — послышалось за дверью.
Сосед, убедившись, что люди там есть, вернулся к себе за железную дверь.
Но почти родная дверь все не открывалась. Могель опять сел на ступени и начал свою заунывную песню.
О том народе, что всегда смеется вместе с братьями, а вздыхает в одиночестве, рассказать может только чонгури.
Под дребезжанье трех волос, выщипанных из хвоста трудяги-мерина, споет вам одинокий юноша песню, в которой вместились и тоска веков, проплывающих мимо, и тоска хулимого народа, и тоска страны его, где на болотах — ольха да граб, где развалины церквей заросли терном, где слезами залиты пороги.
Не из мутных рек поила ты своих детей, влажная страна, а из родников, обитых камнем.
Только, подрастая, они уходили прочь от нищеты, бесплодия, страха, чтобы в чуждых-родных краях обрести достаток и покой, но потерять свое имя и даже речь.
Страна, чьи праздники не обходились без сродственников, и только в дни пожарищ, труса, глада и гнева соседей оставалась одна.
О, родной, неуютный, неплодородный, неединственный край! О, родной, неповторимый, непризнанный, неединственный язык! О, слезами залитый порог!
Наконец по ту сторону двери зазвенели ключи. Могель замолк и вскочил.
Дверь открылась, и у ног его ковром расстелился свет. В дверях появилась его невестка Джозефина, которую он видел только однажды, на похоронах отца. Сейчас она была в тонком и таком шикарном халате, что Могелю показалось: имей он в руках его цену, ему бы удалось и прописаться, и работу найти.

Прелестна была единственная сестра владетеля Абхазии Ахмуд-бея, и брак с ней крепко привязал к Абхазии Маршана Химкорасу, князя Дальского. Но прелестная Енджи-ханум с первого дня была чрезвычайно расстроена отношениями с супругом и чувствовала, что ни у кого из окружавших не лежала к ней душа.
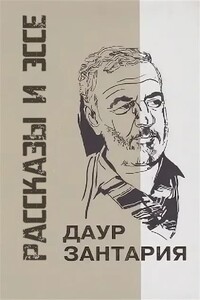
В сборник рассказов и эссе известного абхазского писателя Даура Зантарии (1953–2001) вошли произведения, опубликованные как в сети, так и в книге «Колхидский странник» (2002). Составление — Абхазская интернет-библиотека: http://apsnyteka.org/.

«Чу-Якуб отличился в бою. Слепцы сложили о нем песню. Старейшины поговаривали о возведении его рода в дворянство. …Но весь народ знал, что его славе завидовали и против него затаили вражду».

Изучая палеолитическую стоянку в горах Абхазии, ученые и местные жители делают неожиданное открытие — помимо древних орудий они обнаруживают настоящих живых неандертальцев (скорее кроманьонцев). Сканировано Абхазской интернет-библиотекой http://apsnyteka.org/.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ф. Дюрренматт — классик швейцарской литературы (род. В 1921 г.), выдающийся художник слова, один из крупнейших драматургов XX века. Его комедии и детективные романы известны широкому кругу советских читателей.В своих романах, повестях и рассказах он тяготеет к притчево-философскому осмыслению мира, к беспощадно точному анализу его состояния.

Памфлет раскрывает одну из запретных страниц жизни советской молодежной суперэлиты — студентов Института международных отношений. Герой памфлета проходит путь от невинного лукавства — через ловушки институтской политической жандармерии — до полной потери моральных критериев… Автор рисует теневые стороны жизни советских дипломатов, посольских колоний, спекуляцию, склоки, интриги, доносы. Развенчивает миф о социальной справедливости в СССР и равенстве перед законом. Разоблачает лицемерие, коррупцию и двойную мораль в высших эшелонах партгосаппарата.
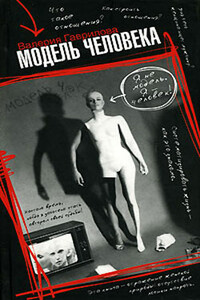
Она - молода, красива, уверена в себе.Она - девушка миллениума PLAYBOY.На нее устремлены сотни восхищенных мужских взглядов.Ее окружают толпы поклонников Но нет счастья, и нет того единственного, который за яркой внешностью смог бы разглядеть хрупкую, ранимую душу обыкновенной девушки, мечтающей о тихом, семейном счастье???Через эмоции и переживания, совершая ошибки и жестоко расплачиваясь за них, Вера ищет настоящую любовь.Но настоящая любовь - как проходящий поезд, на который нужно успеть во что бы то ни стало.
