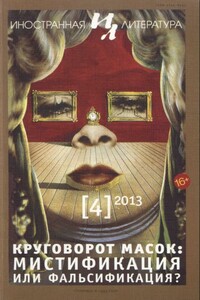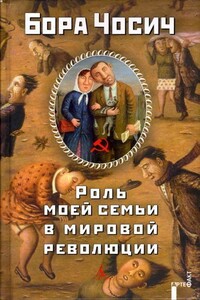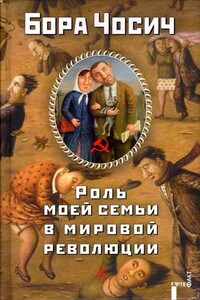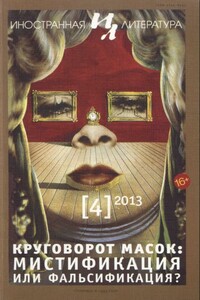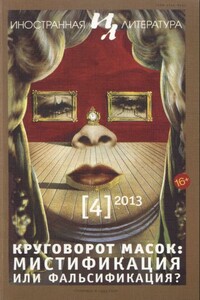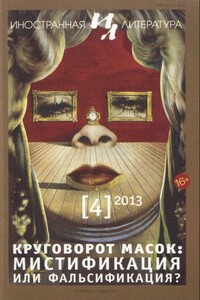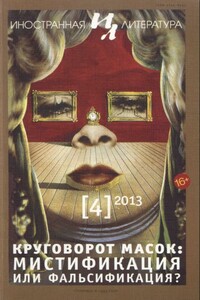Отвечая на вопросы «ИЛ» о мистификации
Вступление автора
Литература, конечно же, — всегда мистификация, потому что она пытается исказить произошедшие события. И в наши дни, в период постмодернизма, это особенно заметно. Но в то же время литература — один из прекраснейших даров, врученных человечеству. Такие произведения, как «Попугай Флобера» или «Племянник Витгенштейна» дают нам новую картину искусственно созданной действительности в виде некоего занимательного фальсификата, демонстрируя то, что могло бы произойти, но не произошло в ходе известных событий. В результате этого само событие приобретает драгоценные черты, которые открывают нам глаза на то, что действительностей на самом деле много больше, чем мы полагаем.
Я неоднократно прибегал к этому методу, используя в собственных интересах тексты Пруста или Гюнтера Грасса. Так, в «Дневнике апатрида» я описал свои военные годы (1992–1995) языком героя Пруста, а «Новая встреча в Тельгте» (1994) представляет собой некий новый вариант книги Грасса. Тогда, в самом начале нашей несчастной войны на Балканах, меня пригласили в Венецию на встречу писателей, но я не смог туда поехать в связи с распадом Югославии — не сумел оформить новые документы.
«Записная книжка Музиля» родилась по иному, намного более веселому поводу, она выросла из желания представить многие события в европейской литературе в виде каламбура, написать что-то вроде сюрреалистической повести. Надеюсь, Бахтин одобрил бы мой карнавальный метод, ведь некоторые мои критики уже установили родство «Роли моей семьи в мировой революции» с теорией Бахтина. Но все мои рассуждения по этому поводу лучше всего изложены в дополнении к «Записной книжке Музиля», которое называется «Путеводитель».
Эта книга написана в конце восьмидесятых, так что в ней содержатся прямые аллюзии на вздымающуюся волну национализма в Сербии, как и на многие частные события, случившиеся в моей семье.
Триест, 1912…
1. О причинах нервозности обыкновенного австрийского писателя
Только бы моя жена, в обычной жизни весьма внимательная женщина, не побоялась чем-нибудь помешать моей литературной работе, потому что, когда ей кажется, что она мне мешает, на самом деле она нисколько не мешает мне работать, но мешает мне ее опасение, что она каким-то своим вмешательством помешает мне работать! Постоянно думая о том, что она создает для меня неудобства, жена заставляет меня нервничать, и эта нервозность не дает мне возможности беспрепятственно продолжать работу над книгой, но она не понимает, что как раз ее беспрестанные разговоры о стремлении не мешать мне работать, вызывают у меня нервозность более сильную, чем любая другая нервозность, вызванная какими-либо неудобствами. Вот и теперь она, после того как я убедил ее в том, что она мне ничуть не мешает и единственное, что могло бы действительно помешать мне работать, так это ее постоянные разговоры об этом, — так вот, она и теперь считает, что как раз эти разговоры и помогут мне сохранить душевное равновесие, несмотря на то что я ей самым спокойным тоном и без малейшего намека на нервозность объясняю, что в этот момент единственное, что может вызвать у меня нервозность, так это ее бесконечные разговоры о том, что она мне мешает, хотя вовсе и не желает этого делать.
Так что я уже долгое время не могу написать ничего, кроме эпизода, где она извиняется, что мешает мне, так как меня нервирует как раз то, что она передо мной извиняется. Мне кажется, что она, извиняясь за каждый обыденный мелкий проступок, пытается не впадать в нервозное состояние, полагая, что если она не извинится, то начнет нервничать, я же при этом моментально погружаюсь в свою привычную ежедневную нервозность, стоит ей лишь начать извиняться, тогда как без ее извинений я бы вообще не нервничал. Если бы Марта мешала мне молча, не замечая того, что мешает, я бы сумел вызвать в себе гнев человека, раздосадованного тем, что ему мешают, и это послужило бы мне неплохой темой на какое-то время, но поскольку она, а я постоянно ожидаю этого (тем самым предваряя свою нервозность), без конца извиняется за каждый пустяк, то я никак не могу не только описать наши сложные отношения, но и не в состоянии избежать этого, так что почти схожу с ума из-за этой нервозности! Человек, который не в состоянии что-то сделать, уже только потому начинает нервничать, что не может чего-то сделать. Но писатель, который не в состоянии описать состояние, в котором находится, впадает в невероятную, присущую только писателю нервозность, которую человек не пишущий просто не может себе представить.
Между тем Марта полагает, будто знает, что творится в моей душе, поскольку она моя жена, тогда как другие считают, что я, конечно же, не знаю, что творится в ее душе, несмотря на то что я — человек пишущий и обязан знать, что творится в душе каждого человека, хотя бы уже потому, что я писатель. Потому что писатель, в чем убеждена Марта, открыто демонстрирует всем, что творится в его душе, и я, будучи писателем, тоже не умею скрывать свои чувства, касается это литературы или всего прочего. В то же время я — какой-никакой писатель и могу познать любую душу, кроме души своей жены, потому что если бы я познал душу своей жены, то не смог бы жить с этой женщиной. А она может жить со мной только потому, что она абсолютно во всем и всегда меня понимает! К тому же она считает, что я подвержен этой вымышленной нервозности, хотя и произвожу на всех впечатление человека, который никогда и ни из-за чего не нервничает!