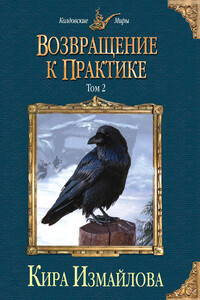«Всегда кажется, что нас любят за то, что мы так хороши. А не догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любит»
Л.Н.Толстой
«Родина там, где чувствуешь себя свободно…»
Абу-ль-Фарадж
Когда открылась на нужной странице книга Судеб и, устранив вольное толкование небесных орбит, утвердила его право, когда проникла в него наследственная пыль неисповедимых путей и обернулась звериной мудростью; когда первый луч света отразился в зеркале невинной души, а единоутробные страхи напугали сон грядущими откровениями – взошла луна его предписанного одиночества и озарила туманный ландшафт навязанного пространства.
В далеких лесах дикие звери разминали мягкие лапы, намереваясь встать у него на пути. На высоких склонах подрагивали гремучие камни, готовясь обрушиться на его голову. Догнивали изнутри расшатанные помосты, чтобы рухнуть под ним.
Давно отменили рисунок импрессионисты, заменив его разноцветными квантами энергии, отчего дрогнула и ожила трепетная фольга листьев, прислушиваясь к синевато-малиновому монологу барбарисового куста.
Черные люди на другом конце земли возвестили новую эру, исказив до неузнаваемости гармонию и звук, а в небе расцвели огненные цветы.
Пустые заботы плыли в лодках по сухим расплющенным городам, сверяя свой путь с карманными путеводителями в мягких обложках.
Мерцающие вампиры поселились в дворцах и хижинах, навязывая мнения, плодя бойкие языки и вычитая из отпущенного срока тщету многочасовых бдений.
Миллиарды мужчин и женщин назначали и отменяли встречи, жевали и спали, болели и выздоравливали, обновляя свои вирусные базы.
Муравьи рассуждали о глобальных проблемах, пытаясь представить, что будет, когда они обзаведутся автомобилями.
И только юный ветер мечтал сочинить нечто глубокое, лазурное, негаснущее, полное покоя и благого обмана, и тем утолить голод камней и жажду рек, разгладить искаженное лицо печали и возвысить звук одинокой струны.
Не тогда ли впервые услышал он плач зверя и увидел, как догорает чужая луна?
Тихая заводь несмышленого возраста, в которой водится белобрысое существо, не ждущее подвоха. Богатство мира множится с каждым днем. Его можно потрогать, его можно назвать. Почему нельзя то, что хочется? Почему невозможно взлететь? Где живет повелитель всего? Ветер заставляет жмуриться и склеивает слезами ресницы, пряча от глаз зеленую даль, откуда он прилетел. Воздух невыразимо хорош. Он живет на лугу и под домом, он пахнет небом и одеколоном на щеках отца, сквозь который пробивается слабый аромат материнских духов. Как страшно одному в темноте! На крыльце без матери плачет котенок. Собачье тело под шерстью теплое, как лужи после дождя. Изловчиться и поймать то, что можно съесть. Рыбу, например. Кинуть ее в банку с водой, где она будет умолять отпустить ее за три желания. Вокруг много «нельзя», а если что-то интересное, то чужое. Построились по двое и взялись за руки! Почему ему не хочется отпускать ее руку? Когда он вырастет большой, он на ней женится. Он знает песни и хочет их распевать. Он знает стихотворения и хочет их петь. У него есть краски, и он хочет рисовать. Вокруг него люди, и он хочет их любить, потому что они любят его…
Все это теперь не более чем дальние подступы к сегодняшней высоте, разглядывая которые в бинокль памяти можно различить как общую диспозицию, так и отдельные места их волнистого рельефа. Хорошо, например, видны неподвластные ржавчине и подернутые мягкой дымкой умиления конструкции дружбы. Легко угадываются затянутые мхом позднего прощения укрытия, где он прятался от артобстрелов насмешек. Скромно выглядят развалины неприязни, поросшие бурьяном забвения. Лучше всех, пожалуй, сохранились участки, вспученные ярким и упругим, как итальянская увертюра любовным чувством.
Панорама тех лет – что набор картинок неравноценного качества. Одни выцвели, другие исчезли, третьи шевелятся по ночам, четвертые нуждаются в сопровождении слов и жестов. В них нет объема, ни перспективы, и маскировочная сетка забвения разбежалась мелкими трещинами по их тусклой лакированной поверхности. Его присутствие на многих из них можно было бы теперь считать неловким и даже смешным, если бы нынешняя, промежуточная высота не заставляла смотреть на прошлое снисходительно.
…Следующие за детством дни его, складываясь в линию слабоколебательного характера (слабохарактерного колебания?), прочертили короткий отрезок отрочества, по которому полноватый и неуклюжий подросток проследовал под присмотром отца-инженера, матери-конструктора и беспартийных бабки с дедом до певучей своей юности. В мелкоячеистой его памяти мелкой рыбешкой запутались люди, предметы и приметы, из которых с пластилиновой легкостью лепилось его взросление.
Только что он, поторапливаемый матерью, покинул их тесное жилище, и вот уже трехмерное тело коммунальной квартиры схлопнулось в плоскость входной двери, а сам он, скользнув на лифте по оси ординат до нулевой отметки, двигается по асфальтированной дуге гигантской окружности до тех пор, пока его дом не превратится в точку А, а точка Б не станет школой. Там он, доверившись взрослым на слово и подгоняемый, словно подопытный зверек оглашенными звонками, мечется по лабиринту педагогического процесса, набивая соты памяти тем, что однажды окажется ненужным и, выпав в осадок, растворится в ней, не оставив о себе ни малейшего сожаления. Гораздо полезнее, хотя и болезненнее опыты общения и разобщения, которым подвергается добрый, чувствительный подросток с глазами, исполненными удивленного внимания. Через несколько часов он находит из этого лабиринта выход и, поменяв левую сторону на правую, движется в направлении родных стен.