Записная книжка Музиля - [2]
Вот почему она полагает, что может рассуждать о моей нервозности как о повышенной нервозности, возможно, даже с угрожающими последствиями. Мне же кажется, что нервничает-то как раз она, но я воздержусь здесь от решительных высказываний, поскольку нервозность (или не-нервозность) каждого исходит непосредственно из чьей-то, в том числе и ее, души, а уж о ней я не имею никакого понятия. В этом и коренится мое непонимание ее не-нервозности, которую я все-таки считаю нервозностью, тогда как она абсолютно уверена в моей нервозности. Вот в таком постоянном понимании-непонимании проходит наша жизнь, которую она называет гармоничной, а я, как она полагает, исходя из выше разъясненной ситуации, исключительно нервозной. По ее мнению, гармонию нашей жизни не нарушает даже то, что я считаю свою жену нервной, к тому же она уверена в том, что нервничаю-то на самом деле я, даже если моя нервозность маскируется под некоторую особую ненервозность, которую, как она утверждает, давно уже раскусила.
Марта уверена, что каждый мужчина есть личность нервозная, которая всячески пытается выглядеть не-нервозной, в то время как любая женщина, даже если она тотально не-нервозная и уравновешенная, стремится продемонстрировать некоторую свою нервозность, даже если она ей совершенно не свойственна! Потому что, как считает Марта, каждая женщина полагает, что без этой пусть кажущейся нервозности она ровным счетом ничего не значит в глазах мужского пола, в то время как мужчина, даже если он старается показать, что в нем нет никакой нервозности, всегда проявляет ее в присутствии женского пола, и слава богу, что проявляет!
В связи со всем вышесказанным вот уже длительное время я хочу зафиксировать эти факты нашей взаимно нервозной жизни как имеющие важное значение для изучения поведения людей, Марта же считает, что для меня нет ничего святого, даже «самого святого» в нашей взаимной нервозности, поскольку я стараюсь все это вставить в свою книгу. Марта уверена, что в книгу можно вставлять только не-святые вещи, те, что никак не связаны с обычными жизненными ситуациями, как, например, такими: двое живут вместе, но факт совместного проживания является для них лишь источником их неизменной взаимной нервозности. Я же уверен, что мысли Марты должны быть направлены совсем не в том направлении, что мои, даже в прямо противоположном, потому что, если бы она думала точно так, как я, я бы вообще не смог думать, и, кроме того, если бы это ее/мое мышление было бы совершенно неразличимо, у меня не было бы повода вносить это в свою книгу.
2. Теперь вступает мой несчастный брат Георг — Джорджио
А Джорджио, похоже, вовсе и не твой, а мой брат, говорит она, потому как носится по Триесту как полоумный. Вот сегодня, например, он уже написал статью для «Piccolo della Sera», дал уроки игры на пианино госпоже Норе Барнакль, мадемуазель Эмме Куцци и фройляйн Глобочник, потом побежал на встречу с Игнатием Галлахером в «Degli Specchi», а теперь ему пора на репетицию в «Filarmonica di Trieste», где он кому-то аккомпанирует, после этого он должен отнести розы баронессе Леониде Экономо, посетить доктора Джильберто Синагалью, который удалит ему зуб, отправиться на виа Донато Браманте к своей сопранистке, прямо с окровавленными губами и удаленным коренным зубом, расспросить у «Berlitz», не найдется ли для него какой-нибудь работы на следующей неделе, ну и, конечно, когда он поднимется сюда, на Сан-Никола, 32, на третий этаж, он уже не в состоянии будет даже сесть за стол, вот он и хлебает этот мой проклятый суп, стоя в дверном проеме между двумя комнатами, а пот летит с него хлопьями, как с загнанной лошади! И тебя не раздражает, что кто-то в нашем доме ест этот несчастный суп не за столом, не пользуясь салфеткой, не позволяя себе ни минуты отдыха? Вот ты и написал бы о нем правдивый реалистический рассказ, о том, как обстоят у него дела, и об этой его нервозности, написал бы о брате известного писателя, который пишет обо всем, но только не о брате этого самого писателя! Если у писателя есть брат, пусть даже и такой непутевый, как твой, было бы правильно вставить этого брата хотя бы в один рассказ, пусть он и твой родной брат, вот если бы у меня был хотя бы наполовину такой дурной брат, о нем бы все уже давно читали роман в пятьсот страниц мелким шрифтом! Я вынуждена позволять ему стоять в дверном проеме, хотя прекрасно знаю, как тебя раздражает, когда кто-то в нашем доме ест стоя, а ведь похлебав на бегу мой какой-никакой суп, Джорджио должен немедленно мчаться на Моло Сан-Карло к синьору Мойше Канарутто! Как будто Мойше Канарутто в состоянии поправить дела этого бегуна на короткие дистанции по этому несчастному портовому городу. И ты меня еще уверяешь, что эта беготня твоего брата вокруг Канарутто, доктора Синагальи и сумасшедшего ирландца Игнатия Галлахера, которому вообще нечего делать в Триесте, — все это вместе тебя нисколько не раздражает?! Эмма Куцци рассказала мне, что видела его однажды утром на виа Делла-Баррьеза в одной рубашке и в шляпе, а где он оставил другие части гардероба, ты можешь спросить у него сам. Разве это не подходящий сюжет для рассказа, который ты так хочешь написать, с тех пор как мы здесь поселились, где вообще-то нельзя жить, а вот там, где надо было бы жить, тебе никак не живется! Мы живем только там, где, по-твоему, жить хорошо, но как можно жить здесь, в этих проклятых портовых испарениях, я вообще думаю — хуже этого места в мире нет! И хоть бы ты использовал это место для описания всех этих испарений и твоего брата Джорджио, который носится по улицам без брюк, но ты считаешь, что для твоей книги будет куда интереснее описать пейзаж, в котором, как в истинном пейзаже, вообще нет никаких испарений, и брата нет, и никаких эпизодов без брюк тоже нет. Да ведь любой писатель, который живет в таком идиотском месте, в каком живем мы, может только мечтать увидеть такую сцену, в которой, помимо других, участвует и его родной брат со своей неуемной фантазией, которая куда фантастичнее фантазии самого фантасмагорического писателя, как австрийского, так и любого другого. Несчастная твоя мать Термина и еще более несчастный отец Альфред, если учесть еще и его инженерский взгляд на вещи! Конечно, с таким инженерским взглядом, который ты унаследовал от отца, ты не в состоянии описать фантазерство Джорджио, которое, к сожалению, досталось ему от матери. Наверно, лучше было бы, чтобы Джорджио сел писать роман о себе, а ты бы взялся за свои политехнические эксперименты и изобрел бы какое-нибудь устройство для домашнего хозяйства, пусть даже самое неупотребимое! О, если бы хоть малая доля маминой фантазии досталась тебе и хоть немного папиного инженерского разума перешло к Джорджио! Но он фантазирует, не имея таланта, для того чтобы эту фантазию хоть как-то использовать в каком-нибудь искусстве, а ты, у которого таковой талант якобы имеется, ведешь себя как инженер, тебя ничто не волнует, даже тогда, когда стал бы беспокоиться и нервничать самый никчемный инженер-политехник! В каждой семье есть свои проблемы, но в абсолютно приличной семье дела обстоят хуже, чем в любой другой. Так что, похоже, — чем приличнее семья, тем хуже в ней дела, вместо того чтобы было наоборот. Ведь каждая неблагопристойная семья старается выглядеть попристойнее, а в той, которая полагает, что она и без того пристойна, один начинает писать романы, что само по себе вроде и неплохо, а другой сын никак не может ни на чем остановиться, то на одно бросается, то на другое, а чем все это закончится — только наш дорогой Боженька знает!
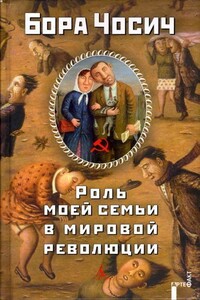
Бора Чосич – удивительный сербский писатель, наделенный величайшим даром слова. Он автор нескольких десятков книг, философских трактатов, эссе, критических статей, неоднократно переводившихся на различные языки. В книге «Роль моей семьи в мировой революции» и романе «Наставники», фрагменты которого напечатаны в настоящем томе, он рассказывает историю своей семьи. В невероятно веселых и живых семейных историях заложен глубокий философский подтекст. Сверхзадача автора сокрыта в словах «спасти этот прекрасный день от забвения».
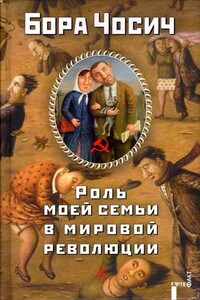
Бора Чосич – удивительный сербский писатель, наделенный величайшим даром слова. Он автор нескольких десятков книг, философских трактатов, эссе, критических статей, неоднократно переводившихся на различные языки. В книге «Роль моей семьи в мировой революции» и романе «Наставники», фрагменты которого напечатаны в настоящем томе, он рассказывает историю своей семьи. В невероятно веселых и живых семейных историях заложен глубокий философский подтекст. Сверхзадача автора сокрыта в словах «спасти этот прекрасный день от забвения».

Фрэнклин Шоу попал в автомобильную аварию и очнулся на больничной койке, не в состоянии вспомнить ни пережитую катастрофу, ни людей вокруг себя, ни детали собственной биографии. Но постепенно память возвращается и все, казалось бы, встает на свои места: он работает в семейной юридической компании, вот его жена, братья, коллеги… Но Фрэнка не покидает ощущение: что — то в его жизни пошло не так. Причем еще до происшествия на дороге. Когда память восстанавливается полностью, он оказывается перед выбором — продолжать жить, как живется, или попробовать все изменить.

Эта книга о тех, чью профессию можно отнести к числу древнейших. Хранители огня, воды и священных рощ, дворцовые стражники, часовые и сторожа — все эти фигуры присутствуют на дороге Истории. У охранников всех времен общее одно — они всегда лишь только спутники, их место — быть рядом, их роль — хранить, оберегать и защищать нечто более существенное, значительное и ценное, чем они сами. Охранники не тут и не там… Они между двух миров — между властью и народом, рядом с властью, но только у ее дверей, а дальше путь заказан.

Тайна Пермского треугольника притягивает к себе разных людей: искателей приключений, любителей всего таинственного и непознанного и просто энтузиастов. Два москвича Семён и Алексей едут в аномальную зону, где их ожидают встречи с необычным и интересными людьми. А может быть, им суждено разгадать тайну аномалии. Содержит нецензурную брань.

Шлёпик всегда был верным псом. Когда его товарищ-человек, майор Торкильдсен, умирает, Шлёпик и фру Торкильдсен остаются одни. Шлёпик оплакивает майора, утешаясь горами вкуснятины, а фру Торкильдсен – мегалитрами «драконовой воды». Прежде они относились друг к дружке с сомнением, но теперь быстро находят общий язык. И общую тему. Таковой неожиданно оказывается экспедиция Руаля Амундсена на Южный полюс, во главе которой, разумеется, стояли вовсе не люди, а отважные собаки, люди лишь присвоили себе их победу.

Новелла, написанная Алексеем Сальниковым специально для журнала «Искусство кино». Опубликована в выпуске № 11/12 2018 г.

Саманта – студентка претенциозного Университета Уоррена. Она предпочитает свое темное воображение обществу большинства людей и презирает однокурсниц – богатых и невыносимо кукольных девушек, называющих друг друга Зайками. Все меняется, когда она получает от них приглашение на вечеринку и необъяснимым образом не может отказаться. Саманта все глубже погружается в сладкий и зловещий мир Заек, и вот уже их тайны – ее тайны. «Зайка» – завораживающий и дерзкий роман о неравенстве и одиночестве, дружбе и желании, фантастической и ужасной силе воображения, о самой природе творчества.
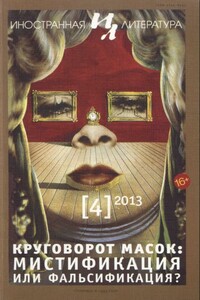
В рубрике «В тени псевдонимов» напечатаны «Жуткие чудо-дети» Линды Квилт.«Сборник „правдивых историй“, — пишет в заметке „От переводчика“ Наталия Васильева, — вышел в свет в 2006 году в одном из ведущих немецких издательств „Ханзер“. Судя по указанию на титульном листе, книга эта — перевод с английского… Книга неизвестной писательницы была хорошо принята в Германии, выдержала второе издание, переведена на испанский, итальянский, французский, португальский и японский языки… На обложке английского издания книги… интригующе значится: „Линда Квилт, при некотором содействии Ханса Магнуса Энценсбергера“».
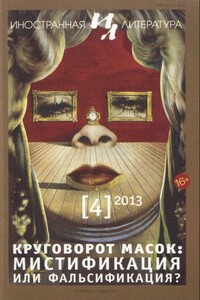
В рубрике «Документальная проза» — «Нат Тейт (1928–1960) — американский художник» известного английского писателя Уильяма Бойда (1952). Несмотря на обильный иллюстративный материал, ссылки на дневники и архивы, упоминание реальных культовых фигур нью-йоркской богемы 1950-х и участие в повествовании таких корифеев как Пикассо и Брак, главного-то героя — Ната Тейта — в природе никогда не существовало: читатель имеет дело с чистой воды мистификацией. Тем не менее, по поддельному жизнеописанию снято три фильма, а картина вымышленного художника два года назад ушла на аукционе Сотбис за круглую сумму.
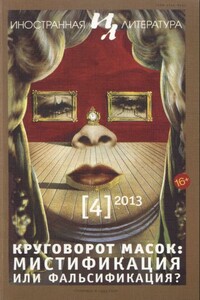
В рубрике «Классики жанра» философ и филолог Елена Халтрин-Халтурина размышляет о личной и литературной судьбе Томаса Чаттертона (1752 – 1770). Исследовательница находит объективные причины для расцвета его мистификаторского «parexcellence» дара: «Импульс к созданию личного мифа был необычайно силен в западноевропейской литературе второй половины XVIII – первой половины XIX веков. Ярчайшим образом тяга к мифотворчеству воплотилась и в мистификациях Чаттертона – в создании „Роулианского цикла“», будто бы вышедшего из-под пера поэта-монаха Томаса Роули в XV столетии.
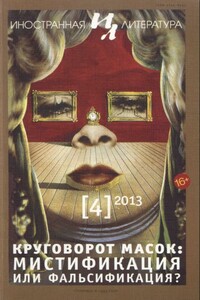
В рубрике «Мемуар» опубликованы фрагменты из «Автобиографии фальсификатора» — книги английского художника и реставратора Эрика Хэбборна (1934–1996), наводнившего музеи с именем и частные коллекции высококлассными подделками итальянских мастеров прошлого. Перед нами довольно стройное оправдание подлога: «… вопреки распространенному убеждению, картина или рисунок быть фальшивыми просто не могут, равно как и любое другое произведение искусства. Рисунок — это рисунок… а фальшивым или ложным может быть только его название — то есть, авторство».