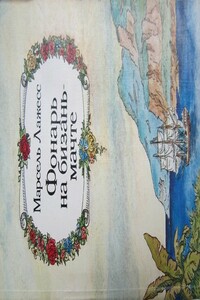Я пойду перед тобою,
а ты кричи мне:
«Иди, не бойся!»
Если паду я —
оставлю имя.
Сказание о Гильгамеше
— Цах-цу-у-у-на! — кричит изо всех сил. — Цах-цу-у-у-на-а-а!! Это она зовет Цахи. Имя его особенно зачастило, когда я рассказала, каким манером Сару уведомили о рождении сына. С пугливым недоумением выслушали, как Сара и Авраам были одни и не было у них никого. Не было детей. Как это можно — что нет детей?
Их потрясенная тишина остановила меня, и я вслушалась в бытие, о котором повествовала, — пустынное бытие без детей, без привычного средоточия, улиткой закручивающего вокруг себя всякую здешнюю деятельность. Их — нет! Они напрягались, пугая бездонным вниманием. Разве можно без них? Оцепенение нельзя было вынести, и я на всех парах устремлялась к моменту, когда Сара не удержалась и прыснула из-за занавески; ее извлекли, пристыдили: что ты прыскаешь? что смеешься? или не веришь, что у тебя будет сын?
Здесь мы всегда подробно останавливались, даже подбоченивались, чтоб хорошенько укорить Сару за несерьезность. На лицах проступали опасливые (вдруг не случится?), но затем более уверенные улыбки (а вот возьму и явлюсь на белый свет и всех удивлю!).
И Сара застеснялась. Это отмечали многократно и с великой охотой. Неудобно ей стало своего смешка.
— Как родится сын, так и засмеешься, и назовешь его — Ицхак[1]!
И тут, как с высшего разрешения, лопались обручи на бочке — все разрешались смехом и указывали на Цахи. А он, жадный птенец, разевал рот и закатывался всех больше. И когда затихали, подначивал тоненьким, как бы нечаянным прысканьем, и смех шел новой волной.
Не так уж его разбирало, но охота было подирижировать смехотворным оркестриком в честь своего собственного сотворения: вот, не было, не было, изождались, изнывая, уж не надул ли Господь, ан, тут он. Цахи, всех и обставил, взял и родился!
И когда десятый раз расстарались для коллективного квохтанья, я уже точно знала, что подразумевается под термином «ритуальный смех».
Между прочим, еще года два назад можно было увидеть, как Цахи плачет. Замечательно добивалась этого Шош, совершеннейший сморчок (смахнешь мизинцем!) с огромным, поедом поедающим взглядом. Начала она так: уселась во дворе на большой камень и, поглядывая неотступно, как десять заповедей, уже высеченные и обращенные безмолвно к вам, именно к вам, так что не отвертеться, — не разрешала сесть рядом. На ясном высоком ее челе читалось: а попробуйте-ка, а я вам снова не разрешу, хоть вы тут все умрите.
— Видишь! — отчаянно сказал тогда Цахи, и при всех усилиях не заплакать, исказивших его мужественную физиономию, не снес издевки и заревел.
— Зэ лё бецедек! (Это несправедливо!)
Он плакал громко, горько, а она спокойно выжидала в той же позиции, чтобы продолжить дрессуру: в него были вбиты принципы, и, как все настоящие мужчины, для которых эти принципы создаются, он был в самый раз подходяще глуп, чтоб не догадаться о ее таинственном извечном принципе, а только взывать, захлебываясь, к справедливости. Господи, на какой крючок скорей его перекинуть, чтоб он не растерзал себя на этом?
— А я-то думала, что ты не умеешь плакать, думала: вот мальчик в моем саду, который не умеет плакать…
Он перестал мгновенно, будто повернули выключатель.
— Хочешь, пойдем и выясним, — и я протянула руку, будто речь шла не об основах миропорядка, а о плевом деле, недоразумении с секретаршей.
— Да, пойдем и выясним, — сказал он, перебегая рядом коротенькими шажками и схватив мою руку. — Мы пойдем и выясним, да?
Кажется, он решил, что «пойти и выяснить» означает «сделать по справедливости».
— Посмотри во-он туда, что там? Ты прав, другой огромный камень, еще больше и круглее! Будет справедливо, если ты взберешься и усядешься на него один!
Он молчал в сомнении.
— Это будет твой камень, — распевала я язычницей-сиреной. — Кому хочешь — разрешишь, кому не захочешь — не разрешишь сесть рядом!
Я разрешу Авишаю и Авнеру, и еще Коби[2], а Шоши не разрешу. Только если она скажет «пожалуйста» — тогда я разрешу.
«Милый, — подумала я с сердечным содроганием, — ты же пропал, пропал…»
Однако не пропал. Просто мне повезло, и я успела застать, когда он еще плакал.
Сейчас, только я подкатываюсь к теме, разжевывая, что да как, он уже кричит: «Это же так, потому что так-то и так-то!» — при этом уставляет руку в бок, а другой делает широкий разоблачающий жест: это, мол, и трехлетки знают, а мы тут, слава Богу, не первый год сидим[3]. И вот младшая часть человечества, рассевшаяся на стульчиках в кружок и приготовившаяся смиренно к мыслительному процессу, и я со своим объяснительным занудством оказываемся ни к чему: нечего тут рассусоливать.
Иногда Цахи бузит исподтишка, чтобы воспитательный план пошел насмарку, а после бросает мне спасательный круг, предлагает послушать рассказ, всегда один и тот же. Все соглашаются. Ни разу не закричали «это уже было!», но с эпическим терпением проходят весь чинный ряд — омовение ног, подготовка трапезы, собственноручное прислуживание Авраама, пока не подступаем к церемонии с Сариным смешком и последующим ее пристыжением. И, как на доисторических посиделках, бывало, пересказывали страстно обговоренную, поразившую сердца историю, оснащая ее новыми подробностями, так и тут при каждом заходе извлекали на свет уточнения и предположения, чтоб не помалкивали о себе втуне, а переживались бы неистощимо, как в первый раз: и с чего она не утерпела? чего засмеялась? Ненасытно хотелось им выслушивать, каково было томление и все не так до ихнего появления, и, наконец, таковое произошло, всех поразив, все обрело законченность и смысл, и история покатилась по рельсам, прошитым семидневным ритмом от родовой пуповины до сих пор, до порога детсада, где мы на коврике беседуем сообща.