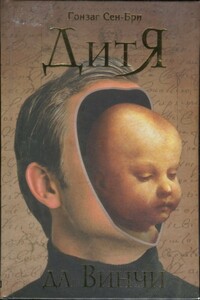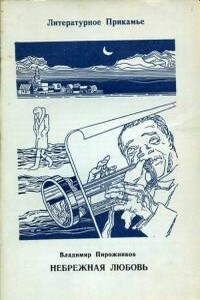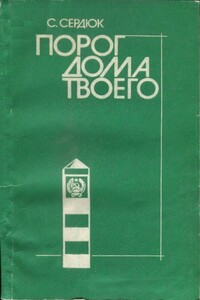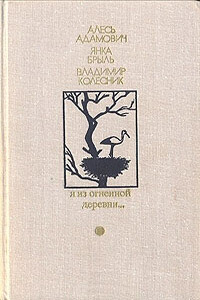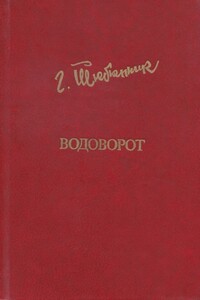Дед Дорикэ, шедший вразвалку, остановился, раскурил трубку, попыхивая неторопливо и втягивая табачный дым глубоко в легкие. Там, внутри, в стариковских легких, хрипело, присвистывало, видать, разладилась какая-то хреновина, а вот какая, дед не знал, да и откуда ему знать, раз учился он в начальной школе, да и ту бросил. Вернее, учитель Продан его выгнал. Он частенько сбегал с уроков, и потому не под силу ему было затвердить спряжение французских глаголов. Человек незлобивый, учитель Продан в конце концов не стерпел великого его равнодушия к грамоте, вышел из себя я прогнал нерадивого ученика взашей.
— Мэй, Тудорикэ, мэй, — попенял он ему на прощание. — Ты темен как ночь.
— Воля ваша, но у меня язык не ворочается по-французски, и все тут. Думаете, я не учу? Учу-у-у! А толку ничуть.
— А что ты намерен делать дальше, Тудорикэ?
— Не знаю, — ответил ученик безмятежно, да и впрямь, откуда ему было знать? — Тата решит, — добавил Тудорикэ, нахлобучил шапку — только его и видели.
Вернее, совсем не видели в школе, да и в деревне тоже, потому что он заделался чабаном.
Дед Дорикэ докурил, жадно затягиваясь и шумно выпуская дым, потом подпоясался потуже широким поясом, который много лет назад связала ему из красной шерсти мэтуша[1] Катица, и, улыбнувшись какой-то своей мысли, заковылял в центр деревни, где находилось правление колхоза. Был у деда Дорикэ свой расчет — придет он туда и скажет: «Бросаю я работу, товарищ председатель Урсаки, старый я человек, на покой пора, пенсионером хочу заделаться, товарищ председатель Урсаки». А председатель колхоза, сердитый страсть, глянет на него, на деда Лорикэ, сверкающими глазищами, усовестить вздумает хрипловатым голосом: «Ты брось мне эти штучки, товарищ Дорикэ, у меня дел по горло, некогда с тобой валандаться, у тебя то одно, то другое на уме, на пенсию уходишь — уходи на здоровье и не вздумай заявиться через неделю обратно на работу проситься, не возьму я тебя — и баста».
А он, товарищ дед Дорикэ, переминаясь с ноги на ногу, зажав кэчулу[2] в руке, почешет с досады в затылке и осадит председателя:
— Ты, товарищ председатель Урсаки, наш, деревенский, и я тебе не чужой. Почему ты дозволяешь себе кричать? Что я тебе, ребенок малый, слава богу, семьдесят с гаком стукнуло, чего и тебе желаю, а будешь голос надрывать да нервы переводить, проживешь ли с мое?
Тут товарищ председатель Урсаки фыркнет досадливо, вытаращит свои глазищи, и без того большие и черные, как темные зимние ночи без снега и электричества, медленно, с угрозой встанет и обопрется руками о стол.
— Ты, товарищ дед Дорикэ, если будешь болтать всякую чепуху, мол, деревенские мы с тобой и прочее, знаешь, что я сделаю?
При этих словах товарищу Дорикэ полагалось испугаться, но дед не пугался — и все тут.
— Сядь-ка, мэй, — говорил он председателю в таких случаях, — не петушись. Кто тебя в люди вывел? Кто кормил-поил, не дал с голоду околеть, когда ты сиротой остался в ту засуху[3], запамятовал? У тебя., того… как его… начисто все забываешь?
— Склероз, товарищ дед Дорикэ. Но у меня его нет. И ничего я не забыл. Ну что ты все время задираешь меня? Не спорю, ты помог мне встать на ноги, а теперь я должен всю жизнь… как это сказать… прощать тебе? Ну скажи, сколько раз ты приходил ко мне? Вдруг ты подаешь заявление, мол, хватит, не буду работать, ухожу на пенсию, мы тебе устраиваем проводы честь честью — с заседанием, с собранием, как положено… А назавтра или дня через два-три ты опять пристаешь ко мне, что дома сидеть не можешь, желаешь возвратиться на стыну[4]. А я могу одним тобой заниматься, товарищ дед Дорикэ, я тебя спрашиваю, могу? Почему ты молчишь?
— А что прикажешь делать, товарищ председатель Урсаки, раз я не могу без дела? Шутка ли, день-деньской со старухой один на один быть… Невмоготу мне… Старая, она что? Дорикэ, поди сюда, поворачивайся, Дорикэ, шевелись… Долго ли под командой бабы человек протерпеть может? Это тебе не в армии. Купил я удочку, решил пойти рыбу ловить на озере Белеу…
— Ну и наловил?
— Товарищ председатель Урсаки, а ты пробовал цельный день торчать, как проклятый, на берегу, да еще когда не клюет ни одна рыбешка? Я и флуер[5] с собой прихватил, чтобы не помереть с тоски. Но одно — овец под флуер пасти, другое — рыбу приманивать.
Наконец усталый и вспотевший председатель сдавался, писал записку, которую дед Дорикэ читал в его присутствии, потом прятал во внутренний карман пиджака и отступал к двери, глядя с иронией на человека, погрузившегося в бумаги. Перед уходом он, довольный, натягивал кэчулу до ушей, поглаживал щеки, покрытые колючей рыжевато-седой щетиной, и прощался: