Золотое колесо - [51]
Преданная Мазакуаль поклялась увести эту птицу при первом же случае, чтобы подарить Хозяину.
Но это потом. Сейчас ни Хозяину, ни ей самой было не до красоты.
Мысль прижиться в одной из нескольких шашлычных турбазы, а тем более около хоздвора Мазакуаль немедленно отвергла, несмотря на то что там, особенно в шашлычных, люди говорили на знакомом ей языке. Конечно же, она и в шашлычных, и на хоздворе не стала бы нахлебницей. Статус, заслуженный ею ввиду ее талантов, она сумела бы обрести и там. Однако Мазакуаль решила свой дар добывать птиц — поставить в услужение скромному Художнику, который творил в одном из вагончиков турбазы.
При этом она понимала, как мало птиц в самом городе и как непросто будет охотиться в пригородах, где на ее пути непременно встанут совершенно иные собаки, воспитанные в другой среде, со смешанным менталитетом.
А почему Художник? Да потому, что бездомной собаке, если у нее есть выбор, конечно же, лучше поставить на русского человека с его умеренным, но стабильным отношением к животным. На этой турбазе, кроме начальства и шашлычников, все остальные были русские, но большинство их были купальщики и сменяли друг друга каждый месяц. Так что, если не считать горничных, которые Мазакуаль мало интересовали, и дворников, которых она оставила на крайний случай, единственным бессменным постояльцем на турбазе был Художник. Он жил и работал на турбазе, считаясь ее достопримечательностью, подобно павлинам и лебедям. Как только Мазакуаль это вычислила, тут же не замедлила состояться их трогательная и несколько фальшивая дружба.
Сострадание — такое чувство, при каждой возможности проявления которого человек начинает себя больше уважать. Потому рана на бедре Мазакуаль оказалась как можно более кстати. На второй же день после злополучного посещения пляжа Мазакуаль, не мешкая и без обиняков, явилась к Художнику в вагончик и вправила в раму растворенной двери свой огорченный, но неуниженный вид. Художник был занят деревянной скульптурой. Он изображал абхазского классика в гостях у сванов, то есть беседующего с двумя старцами в войлочных подшлемниках, которые принято называть сванскими шапками. Продолжая работать, Художник обратил на собаку свое доброе бабье лицо и гаркнул на нее. В ответ Мазакуаль предстала перед ним анфас, причем на ее морде безо всяких слов читалось: внимательней, маэстро, пусть вас не введет в заблуждение простоватый вид вашей гостьи, она может еще вам пригодиться, и это не должно ускользнуть от взгляда Художника: ведь ваш глаз привычен не упускать даже самые незначительные штрихи!
— Пшла, твою мать! — вскричал Художник.
В работе, которую ему заказал сам директор турбазы, не все шло как надо: дерево попалось неудачное, во-первых; во-вторых, лица старцев получались слишком хищными для внимающих писателю мудрецов.
Мазакуаль не знала, что брань, обращенная к ней, является чисто русской, но общей для всех народов, — и в привычной мингрельской среде, и в абхазской, где она побывала недавно, к ней все обращались именно с этой фразой. Она насторожилась. Художник мог в нее чем-нибудь запустить. Повернулась, точнее полуобернулась к нему таким образом, чтобы при данном освещении на миг высветилась ее жестокая рана. Эта рана не могла пройти мимо взора Художника. Мазакуаль осознавала, что она не королевский пудель и рана ее не выглядит столь кощунственной, как если бы была на каракуле благородного собрата, и что первое чувство, которое посетит нормального человека при виде дворняги, да еще изодранной, — это отвращение и желание прогнать ее прочь. Но для пожилого и в силу профессии склонного к рефлексиям человека в отвращении к беспомощному животному всегда есть что-то постыдное. Первоначально оно выражается в желании скорее избавиться от зрелища, вызывающего жалость. Но если сработать тонко, жалость эта будет возрастать обратно пропорционально стремлению от нее избавиться и укрыться. И Мазакуаль сейчас делала все, чтобы благодатное зерно жалости дало немедленные всходы в виде колосьев сострадания и милосердия. Как будто беспомощно заметавшись у входа, она на мгновение убрала рану в тень и тут же высветила ее в новом ракурсе. На морде ее при этом держалась добродушно-прощающая улыбка, какая бывает у того, кого мы сразу не узнали, а должны были узнать, — улыбка, предваряющая наше смущение, которое неминуемо после узнавания. Этой своей улыбающейся физиономией Мазакуаль как бы говорила Художнику, что он должен, должен распознать в этом несчастном существе не совсем обычную собаку, — собаку, способную быть полезной. Старый Художник уже приподнял берет, чтобы почесать себе темя. Собака понимала, что Художник, несмотря на наметанный глаз, не сразу прочитает на ее физиономии эти тонкости, но, по ее замыслу, он уже должен был быть польщен тем, что к нему обращаются с уверенностью в его проницательности. Замысел начинал срабатывать. Процесс умиротворения в сердце мастера уже начался. Хотя он не перестал лихорадочно искать, чем бы в дворнягу запустить. Искал лихорадочно, но слепо, потому что, втянутый в диалог, он мог лишь ненадолго оторвать свой взгляд от собачьей морды, и то лишь для того, чтобы убедиться, что каждый предмет, который он нащупывал, был ему слишком необходим в мастерской, чтобы запустить им в псину. Это давало возможность псине исполнять свои следующие выходы с демонстрацией раны без особого страха.

Прелестна была единственная сестра владетеля Абхазии Ахмуд-бея, и брак с ней крепко привязал к Абхазии Маршана Химкорасу, князя Дальского. Но прелестная Енджи-ханум с первого дня была чрезвычайно расстроена отношениями с супругом и чувствовала, что ни у кого из окружавших не лежала к ней душа.
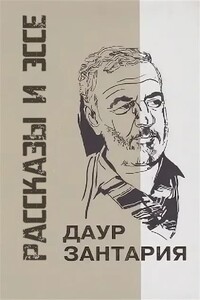
В сборник рассказов и эссе известного абхазского писателя Даура Зантарии (1953–2001) вошли произведения, опубликованные как в сети, так и в книге «Колхидский странник» (2002). Составление — Абхазская интернет-библиотека: http://apsnyteka.org/.

«Чу-Якуб отличился в бою. Слепцы сложили о нем песню. Старейшины поговаривали о возведении его рода в дворянство. …Но весь народ знал, что его славе завидовали и против него затаили вражду».

Изучая палеолитическую стоянку в горах Абхазии, ученые и местные жители делают неожиданное открытие — помимо древних орудий они обнаруживают настоящих живых неандертальцев (скорее кроманьонцев). Сканировано Абхазской интернет-библиотекой http://apsnyteka.org/.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ф. Дюрренматт — классик швейцарской литературы (род. В 1921 г.), выдающийся художник слова, один из крупнейших драматургов XX века. Его комедии и детективные романы известны широкому кругу советских читателей.В своих романах, повестях и рассказах он тяготеет к притчево-философскому осмыслению мира, к беспощадно точному анализу его состояния.

Памфлет раскрывает одну из запретных страниц жизни советской молодежной суперэлиты — студентов Института международных отношений. Герой памфлета проходит путь от невинного лукавства — через ловушки институтской политической жандармерии — до полной потери моральных критериев… Автор рисует теневые стороны жизни советских дипломатов, посольских колоний, спекуляцию, склоки, интриги, доносы. Развенчивает миф о социальной справедливости в СССР и равенстве перед законом. Разоблачает лицемерие, коррупцию и двойную мораль в высших эшелонах партгосаппарата.
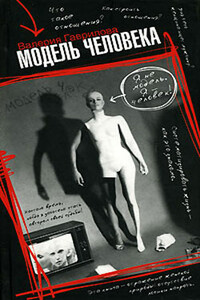
Она - молода, красива, уверена в себе.Она - девушка миллениума PLAYBOY.На нее устремлены сотни восхищенных мужских взглядов.Ее окружают толпы поклонников Но нет счастья, и нет того единственного, который за яркой внешностью смог бы разглядеть хрупкую, ранимую душу обыкновенной девушки, мечтающей о тихом, семейном счастье???Через эмоции и переживания, совершая ошибки и жестоко расплачиваясь за них, Вера ищет настоящую любовь.Но настоящая любовь - как проходящий поезд, на который нужно успеть во что бы то ни стало.
