— Поехали отсюда, — хрипит Геральт.
Пока они добираются до «Гусиной гузки», он стаскивает с руки перчатку, контролирует своё дыхание и окончательно приходит в себя. Вот же чертовщина. Обыкновенному лешему удалось уложить его на лопатки. Скоро он и от гулей будет пизды получать?
Это уже ни в какие ворота…
Мужичонка, протягивающий ему трясущейся рукой кошель с кронами, таращится с откровенным ужасом.
— Это что за сволота тебя так? — сипло спрашивает, не отрывая глаз от бледного лица и прижатой к груди окровавленной руки.
Геральт молча забирает у него кошель, не слезая с коня. Слабо салютует звякнувшими монетами и бросает:
— Ещё раз увижу, что духов призываешь, башку откручу. Только теперь уже тебе.
После чего дёргает поводья и молча уезжает из Урстена, игнорируя брошенное в спину:
— Тебе, может, воды, а? Ведьмак?!
В корчме тихо, как никогда. Двое выпивох сидят недалеко от входной двери — один надирается в гордом одиночестве, а второй прикорнул на собственной руке. Корчмарь возится под прилавком, бормоча себе под нос. В углу расположился пожилой мужик в солдатской форме, устроив у себя на коленях притихшую шлюху, за соседним от него столом — двое низушников рубятся в гвинт. Уже поздняя ночь, поэтому Геральт молча проходит мимо, стараясь не морщиться при каждом шаге и медленно дышать через нос. Добраться бы до своей норы и зализывать раны до самого рассвета… В столе ещё должна была остаться «ласточка». С мыслями об этом он поворачивает к лестницам в комнаты и резко останавливается.
Едва сдерживается, чтобы резко не отвернуться и не пойти в другую стороу — да он бы резко и не смог. Это было бы странно, даже несмотря на то, что сердце сильно сжимается в груди.
Принесла же… нелёгкая…
Залихвацки забросив ноги на край стола, укрывшись от чужого внимания и закинув руку на деревянную спинку лавки, перед ним восседает Ольгерд. Глядит прямо в лицо с ухмылкой на смешливых губах. В полутьме его волосы кажутся не рыжими, а бордовыми. Одним локтем он упирается в столешницу, а сжатым кулаком постукивает по своей кривой улыбке. Щурит глаза. Даже скудного света оплывшей свечи хватает, чтобы разобрать, насколько они синие.
— Ну, здравствуй, Геральт.
Вот она, холера.
Синь, которая берёт тебя за горло и не даёт отвести взгляд.
От тяжелой материи кунтуша пахнет выдержанным вином и целым коктейлем запахов, собранных с тысяч уничтоженных домов, в которых жил Ольгерд. Виноград, алкоголь, табак, дым.
Железо, камин, теплая медвежья шкура.
Запахи мешаются в голове, отвлекая от боли в груди и от мысли: очень хреново, что ведьмачье обоняние не отключается по щелчку пальцев. Было бы очень, сука, кстати.
Наблюдая за склонённым лицом, хочется сказать что-то жалящее. На языке так и вертится какая-то ядовитая колкость. Болезненная и отталкивающая. Что-то, что заставит Ольгерда развернуться и свалить прямо сейчас, прекратить действовать на сознание подобным образом — ведь Геральт никогда не был таким. Под действием Ольгерда он чувствует, как становится другим. Он раздражен — это дико. Это ему не свойственно. И как же трудно ловить себя на остром желании превратиться на пару минут в Ламберта.
Чтобы сказать: часто штопал платья женушке?
Или: да, портниха из тебя — что надо.
Но Геральт не говорит. Он не чёртов Ламберт.
Вместо этого он отворачивает голову в сторону окна и хмуро молчит, сжимая руку, лежащую на столе около зажжённой свечи, в кулак.
Ольгерд бросает на него быстрый взгляд, будто чувствует каждую его мысль, и с усмешкой возвращается к рваной ране, оставленной когтями лешего. Игла тонкая, шелковая нить уже окрасилась в бурый. Боль острая и печёт до самой кости, но это заставляет чувствовать себя нормальным человеком — редкая удача для ведьмака.
— У меня много шрамов, — зачем-то произносит Ольгред. — И не всегда я их получал, когда поблизости был лекарь, готовый их обработать. Учился на себе.
— Ясно, — не отрываясь от темени за окном, отвечает Геральт.
— Могу поспорить — тебя такой историей точно не удивишь.
Да, у меня никогда не было привычки бухать и резать себя ножом, а потом трезветь и штопать свою паршивую шкуру.
Он не говорит этого, но хочется так, что скулы сводит.
Запах можжевелового дерева, заточенной стали, безумной усталости. Геральт старается дышать через раз, но всё равно чувствует его. Невозможно не чувствовать то, что само продирается в ушибленные лёгкие.
— Зачем ты пришёл?
Ольгерд делает последний стежок.
— А зачем люди приходят?
— Когда им что-то от меня нужно. Когда они хотят меня убить.
Они встречаются взглядом.
Теперь кажется, что сверлящий взгляд синих глаз хочет вскрыть черепную коробку, но это быстро проходит. Что бы ни почувствовал Ольгерд, он берёт себя в руки. Прочищает горло. Держать лицо — это умение, которое он всосал с молоком матери. Что бы ни случилось — злишься ты, радуешься, умираешь, — ты держишь лицо.
Он берёт дорожный нож, осторожно отсекает оставшуюся нитку с иглой на конце и откидывается на жесткую спинку деревянного стула. Складывает руки на груди.
Смотрит внимательно и хмурит брови.
— Знаешь, ты мог бы просто сказать, что не любишь, когда друзья дарят тебе вино.
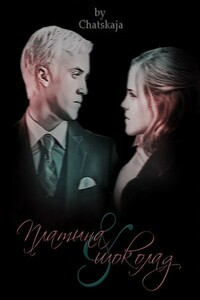

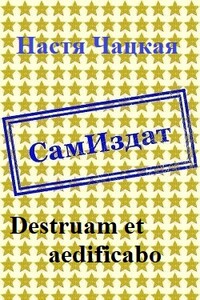


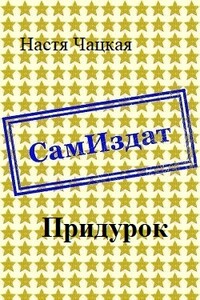

![Время мечтать [повесть и рассказы]](/storage/book-covers/ff/ff78f61582c7cc7d46b3752f781fae4383c2a2da.jpg)



