В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры - [136]
Случай Уэллса – его попытка изобретения «современной утопии», секулярной утопии XX века – представляется мне удобной моделью, позволяющей показать, как утопия становится местом самозабвения, утраты контакта с собой, местом, в котором субъект оказывается «фигурой слепого пятна». И – непременное следствие – местом утраты контакта с другим и другими. Местом, которое исключает возможность «ответа», в шюцевском понимании этого слова, – возможность встречи с тем, что нельзя запланировать.
Если последовать за метафорой «нарциссической культуры» и признать, что при всем неизбежном для диагностической риторики схематизме она улавливает значимые стороны советского опыта, можно сказать, что такой культурный опыт, во многом выстраивавшийся вокруг утраты контакта с собой (и конструирования другого, «нового», идеального себя), делает утопию особенно востребованной. Близкая и запредельно далекая, притягательная и успокаивающе холодная, помогающая анестезировать те невыносимые переживания, которые в этой культуре не могли быть проявлены, и нейтрализовать те неукротимые проявления энтузиазма, которые иначе приняли бы разрушительные для этой культуры формы, – утопия всегда оставалась последним форпостом, защищающим от смерти. А заодно и, безусловно, от жизни.
Александр Эткинд в книге «Кривое горе», быстро ставшей интеллектуальным бестселлером, предлагает точный образ для описания того посткатастрофического культурного ландшафта, который возникает после падения советских форпостов, в том числе и форпоста утопии: речь идет о «непогребенном» прошлом – об утратах, которые остались неоплаканными, и травматическом опыте, который остался вытесненным. Непогребенное прошлое «возвращается в жутких, часто неузнаваемых формах» (Эткинд, 2016 [2013]: 266), наполняя дискурсивное пространство фантазматическими призраками. Это вторжение мертвых, которых по каким‐то причинам сложно или страшно отпустить, эта неготовность провести отчетливую границу между миром мертвых и миром живых, иными словами, это специфическое отношение к прошлому, когда в равной мере затруднены и процедуры памяти, и процедуры забвения, – тема, которая в последнее время все чаще обсуждается исследователями[84]. У подобного культурного состояния сложный анамнез, но, в числе прочего, оно может быть определено и как состояние после утопии – после анестезирующей идеи коллективного бессмертия, после каменного молчания и бессубъектной нейтральности. На руинах утопии обитают фантазмы.
Однако книга, к которой я сейчас пишу заключение, получилась не об утопии. Скорее – о невозможности утопического, о различных практиках, игнорирующих и преодолевающих утопический взгляд, обнаруживающих его пределы или просто отбрасывающих его за ненадобностью. «Оттепельная» журналистика, превращающая мобилизационную риторику в экзистенциалистский дискурс, близкий к оптике Виктора Франкла, или популярное кино «длинных семидесятых», рассказывающее истории мучительного поиска идентичности, или опыт посетителей Пискаревского мемориала, эмоционально открытых для «работы горя», – предметом моих исследований оказывались практики, возникающие рядом с утопией, во многом в связи с утопией и в то же время вне утопии. Практики повседневного, обыденного, негероического и далеко не всегда успешного «размораживания субъектности».
«Возможность выйти из <нарциссической> конструкции связана с признанием того, что на свете существует кто‐то кроме меня», – замечает Борис Дубин. Безусловно, это единственно возможный выход. Но найти его изнутри нарциссической ловушки удастся, лишь опираясь на другое признание: я есть, я не исчез; мое существование неотменимо.
Библиография
Аграновский А. (1957) Репортаж из будущего. Репортаж первый // Юность. № 10. С. 56–69.
Айдинов Г. (1956) В краю молодости // Юность. № 5. C. 80–86.
Алдан-Семенов А. (1961) Новогодние раздумья: Стихи // Смена. № 24. С. 7.
Арлаускайте Н. (2016) «Пройдемте, товарищи, быстрее!»: Режимы визуальности для блокадной повседневности // Новое литературное обозрение. № 1 (137). С. 153–171.
Аронсон О. (2003) Советский фильм: неродившееся кино // Он же. Метакино. М.: Ад Маргинем. С. 87–106.
Архипова Л. (1968) Люди идут по свету // Юность. № 6. C. 95–101.
Архипова Л. (1969) В поисках себя: Участие молодежи в освоении целины. М.: Молодая гвардия.
Балина М. (2007) 1970-е: из опыта буратинологии // Неприкосновенный запас. № 3 (53). С. 182–194.
Бальзак О. де. (2006) Шагреневая кожа [La peau de chagrin, 1831] / Пер. с фр. Б. Грифцова. СПб.: Азбука-классика.
Барнёва Е. (2010) Редакционная политика журнала «Юность» в первые годы существования издания // Вестник Тюменского государственного университета. № 1. С. 238–245.
Барскова П. (2015) В город входит смерть // Сеанс. № 59 / 60. С. 42–53.
Барт Р. (1994) Удовольствие от текста [Le plaisir du texte, 1973] // Он же. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с фр. Г. Косикова. М.: Прогресс. C. 462–518.
Баскина А. (1964) Бойся равнодушия, комсомолец! // Юность. № 5. С. 96–98.
Баташев А. (1966) Квинтет мастеров // Юность. № 7. С. 67–71.
Бедаш Ю. (2010) Гетеротопология как практическая философия // Практизация философии: современные тенденции и стратегии / Под ред. И. Инишева и Т. Щитцовой. Т. 2. Вильнюс: ЕГУ. C. 139–150.

Тема сборника лишь отчасти пересекается с традиционными объектами документоведения и архивоведения. Вводя неологизм «документность», по аналогии с термином Романа Якобсона «литературность», авторы — известные социологи, антропологи, историки, политологи, культурологи, философы, филологи — задаются вопросами о месте документа в современной культуре, о социальных конвенциях, стоящих за понятием «документ», и смыслах, вкладываемых в это понятие. Способы постановки подобных вопросов соединяют теоретическую рефлексию и анализ актуальных, в первую очередь российских, практик.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Б. Поплавскому, В. Варшавскому, Ю. Фельзену удалось войти в историю эмигрантской литературы 1920–1930-х годов в парадоксальном качестве незамеченных, выпавших из истории писателей. Более чем успешный В. Набоков формально принадлежит тому же «незамеченному поколению». Показывая, как складывался противоречивый образ поколения, на какие стратегии, ценности, социальные механизмы он опирался, автор исследует логику особой коллективной идентичности — негативной и универсальной. Это логика предельных значений («вечность», «смерть», «одиночество») и размытых программ («новизна», «письмо о самом важном», «братство»), декларативной алитературности и желания воссоздать литературу «из ничего».

Данная книга — итог многолетних исследований, предпринятых автором в области русской мифологии. Работа выполнена на стыке различных дисциплин: фольклористики, литературоведения, лингвистики, этнографии, искусствознания, истории, с привлечением мифологических аспектов народной ботаники, медицины, географии. Обнаруживая типологические параллели, автор широко привлекает мифологемы, сформировавшиеся в традициях других народов мира. Посредством комплексного анализа раскрываются истоки и полисемантизм образов, выявленных в быличках, бывальщинах, легендах, поверьях, в произведениях других жанров и разновидностей фольклора, не только вербального, но и изобразительного.
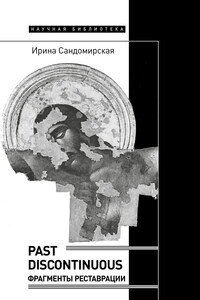
По мере утраты веры в будущее и роста неопределенности в настоящем возрастают политическое значение и общественная ценность прошлого. Наряду с двумя магистральными дискурсами – историей и памятью – существует еще третья форма трансмиссии и существования прошлого в настоящем. Ирина Сандомирская предлагает для этой категории понятие реставрации. ее книга исследует реставрацию как область практического и стратегического действия, связанно гос манипуляциями над материальностью и ценностью конкретных артефактов прошлого, а также обогащением их символической и материальной ценностью в настоящем.

Отношения между мужчиной и женщиной в любые времена служат камертоном развития человечества. Изучение новых канонов красоты, способов ухаживания и брачных обычаев позволяет проследить зарождение и становление общества Ренессанса, предвестника современного мира.

На знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа упокоились священники и царедворцы, бывшие министры и красавицы-балерины, великие князья и террористы, художники и белые генералы, прославленные герои войн и агенты ГПУ, фрейлины двора и портнихи, звезды кино и режиссеры театра, бывшие закадычные друзья и смертельные враги… Одни из них встретили приход XX века в расцвете своей русской славы, другие тогда еще не родились на свет. Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Матильда Кшесинская, Шереметевы и Юсуповы, генерал Кутепов, отец Сергий Булгаков, Алексей Ремизов, Тэффи, Борис Зайцев, Серж Лифарь, Зинаида Серебрякова, Александр Галич, Андрей Тарковский, Владимир Максимов, Зинаида Шаховская, Рудольф Нуриев… Судьба свела их вместе под березами этого островка ушедшей России во Франции, на погосте минувшего века.

В программе «Сати. Нескучная классика» известная телеведущая Сати Спивакова разговаривает с самыми разными представителями культуры. Музыканты, дирижеры, танцовщики, балетмейстеры, актеры, режиссеры, художники и писатели – они обсуждают классику, делятся историями из своей жизни и творчества, раскрывают тайны загадочного музыкального мира. В этой книге собраны самые интересные диалоги минувшего десятилетия. Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Михаил Шемякин, Татьяна Черниговская, Алла Демидова, Фанни Ардан, Валентин Гафт, Сергей Юрский, Андрей Кончаловский и многие другие…В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.