В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры [заметки]
1
См., например, в новаторской для своего времени работе тартуского философа Леонида Столовича «Категория прекрасного и общественный идеал»: «…Поэзия будущего и есть красота коммунистического идеала. Красота не идеалистически-призрачная, но реально достижимая, являющаяся реализацией всех эстетических потенций настоящего» [выделено мной. – И. К.] (Столович, 1969: 337–338).
2
Здесь и далее утопические тексты цитируются по русскоязычным изданиям (если таковые существуют). Ориентируясь на рецептивный подход, я отдавала предпочтение наиболее известным переводам. В тех редких случаях, когда в переводе утрачиваются смыслы, значимые для моего анализа, я ссылаюсь на оригинал и предлагаю свой вариант перевода.
3
См., например, попытку противопоставить этой модели уже упоминавшуюся выше концепцию «утопических импульсов»: Fitting, 2007.
4
О визуальных репрезентациях утопии см.: Gervereau, 2000. На этот глубокий, хотя и довольно эссеистичный обзор я буду неоднократно ссылаться в дальнейшем. Пока для меня важно разграничить логику репрезентации (когда в центр рассмотрения помещаются ресурсы, позволяющие воспроизвести утопию, сделать ее видимой) и рецепции (когда проблематизируется сам процесс ви́дения, конструирования утопического взгляда). Лоран Жерверо формулирует свои задачи исходя из первой логики, но в ходе размышлений смешивает ее со второй – и это, возможно, главный недостаток его анализа.
5
Подчеркну: в данной книге соцреализм упоминается мной не как «художественное течение», не как обширный корпус конкретных и достаточно разнообразных произведений, а как набор предписаний и правил, который задавался авторитетными инстанциями и формировал определенные рецептивные каноны, определенные модели чтения и зрительского взгляда.
6
Как показал Алексей Юрчак, своего апогея эта гипертрофированная герменевтика достигает уже после смерти Сталина – единственного полномочного интерпретатора (Yurchak, 2006: 10–11).
7
Цитируя Паперного, я намеренно игнорирую ключевое для него противопоставление «культуры 1» и «культуры 2» – эта все же очень схематичная концепция плохо работает на интересующем меня сейчас материале (и исследование самого Паперного это подтверждает).
8
Любопытно, что эта, вне сомнения, «нарративная» фотография имеет литературный прототип – ср. описание «памятника первым людям, вышедшим на просторы космоса» в утопии Ивана Ефремова «Туманность Андромеды»: «Склон крутейшей горы в облаках и вихрях заканчивался звездолетом старинного типа – рыбообразной ракетой, нацелившей заостренный нос в еще недоступную высоту. Цепочка людей, поддерживая друг друга, с неимоверными усилиями карабкалась вверх» (Ефремов, 1958 [1957]: 69).
9
http://www.rusrep.ru/article/2013/03/24/gavrilov/.
10
http://www.nikolamihov.com/forget-your-past.
11
Ср. попытку использовать «утопический метод» для разговора о «траектории и границах социологии» (Levitas, 2013). См. также размышления о связи «утопического воображения» и «социологического мышления» в специальном номере журнала «Социология власти» – «Социология и утопия» (№ 4 за 2014 год), особенно – Вахштайн, 2014: 13–37.
12
О всплеске интереса к утопиям (начиная с 1960-х годов), который сопровождался переопределением задач utopian studies, см.: Moylan, 2000: 96.
13
См. примечания Алексея Лосева в изд.: Платон, 1994: 622.
14
Подчеркну: в мои намерения категорически не входит постановка диагнозов Мору или его последователям. Я далека от анахроничных попыток приписать автору «Утопии» ту или иную «структуру личности», опираясь на соответствующую классификацию (напр.: Мак-Вильямс, 2001 [1994]), и использую здесь модель нарциссического расстройства c иной целью – эта модель позволяет проявить проблематику нарушенной идентичности, на мой взгляд скрытую в утопии. Как я надеюсь показать дальше, нарциссическая тема отсутствия самости, «пустого „я“», невидимого для самого себя субъекта во многом задает режимы утопической рецепции и объясняет их близость к экзистенциальным вопросам.
15
Cр. спор скептичного англичанина и оптимистичного француза, открывающий утопический роман Луи-Себастьена Мерсье «Год 2440» (1770).
16
В современной русскоязычной литературе принято использовать именно такой, почти дословный вариант перевода названия романа Беллами «Looking Backward». Сам роман публиковался на русском лишь до 1918 года включительно и выходил под названиями «Будущий век» (этот, судя по всему, первый перевод и цитируется ниже), «Через 100 лет», «Через сто лет».
17
См. в предыдущей главе более развернутую отсылку к этому месту из «Археологии будущего» Джеймисона.
18
Можно сказать, что этот образ рождается одновременно с моделью утопического будущего (и задолго до дарвиновской теории эволюции): еще в просвещенческой утопии Мерсье парижане 2440 года упоминают о том, что находятся «лишь на полпути» в своем стремлении к совершенству, которое, впрочем, по всей вероятности «вещь недостижимая» (Мерсье, 1977 [1770]). Бостонцы 2000 года из романа Беллами уже со всей определенностью утверждают, что их победы относительны, а путь «усовершенствования рода человеческого из поколения в поколение» – бесконечен (Беллами, 1891 [1888]: 291).
19
Уэллс, впрочем, не знает, что социологам будущего этот замысел покажется вполне вдохновляющим – так, Рут Левитас прямо оговаривает, что ее проект рассмотрения социологии через призму «утопического метода» инспирирован идеями Уэллса (Levitas, 2013: viii).
20
Очевидно, что позднéе такое противостояние между антикварной лавкой и (анти)утопией приобретает устойчивость сюжетной формулы – ср., например, роль антикварной темы в романе Филипа Дика «Человек в высоком замке» (1962).
21
О философской традиции, в рамках которой универмаг рассматривается как метафора общества, и о связи этой метафоры с утопией XIX века см.: Бьюмонт, 2004.
22
Уэллс подчеркивает этимологическую связь этой модели с идеями Фрэнсиса Бэкона (Ibid.: 121). О «сциентистском утопизме» Бэкона и Уэллса см.: Nate, 2001.
23
Ср. в одном из научно-фантастических произведений середины 1950-х отповедь положительного персонажа, обращенную к оппоненту: «…Вы, милостивый государь, идеалист! Идеалист все последние пятнадцать лет жизни! Разучившийся мечтать, собиратель мертвых фактов» (Соловьев, 1957 (№ 1): 34).
24
Подразумеваемым оппонентом советского оптимизма, конечно, является капиталистический пессимизм: концепту «веры в будущее», неоднократно повторенному в докладах съезда, противостоит столь же регулярно встречающийся концепт «страха перед будущим» – обязательного спутника «человеконенавистнической империалистической идеологии» (позднее Стругацкие в повести «Понедельник начинается в субботу» предложат пародийное описание этого конфликта – образ Железной стены, разделяющей «наш» Мир Гуманного Воображения и «их» Мир Страха перед Будущим). Стоит отметить: разговор о будущем допускает апелляцию к сфере аффектов (вера vs. страх), что не слишком согласуется с идеей рационально планируемого «завтра».
25
Ниже будут рассмотрены произведения, вышедшие в свет в 1953–1956 годах; мне показалось уместным включить сюда и литературный сценарий Василия Соловьева «Триста миллионов лет спустя», который начал печататься в журнале «Юный техник» в 1956 году, но окончание было опубликовано уже в 1957-м (Соловьев, 1956; Соловьев, 1957). Подчеркну: во всех случаях речь идет о первых публикациях, за одним исключением: в число моих источников входит «Полярная мечта. Мол „Северный“» (1956) Александра Казанцева – исправленная версия романа, впервые вышедшего в 1952 году и изначально называвшегося просто «Мол „Северный“». В своем решении я руководствовалась прежде всего тем, что вторая редакция, довольно существенно отличаясь от первой, приобрела не меньшую, а то и бόльшую известность. К тому же ценна сама возможность сопоставить два варианта (Казанцев, 1952; Казанцев, 1956), хотя рамки главы позволяют воспользоваться этой возможностью лишь очень бегло и совсем не позволяют сколько‐нибудь развернуто сказать о третьей редакции, увидевшей свет в 1970 году под названием «Полярное солнце». В основном же роман Казанцева цитируется мной по изданию 1956 года.
26
О семантике ритма в раннем языке описания советского энтузиазма см.: Калинин, 2013.
27
О несовпадении образов изобилия с практиками потребления и фигурой потребителя см., напр.: Goscilo, 2009.
28
В редакции 1956 года Сталин, конечно, отсутствует, зато новый вариант текста не оставляет сомнений в том, что речь идет именно о темпоральности: «Немало ночей просидел я у открытого окна, прислушиваясь к ночным шорохам, к тому, как перекликаются паровозы и пароходы, к бою кремлевских курантов. Они отмечали бег времени, которое мне хотелось опередить» (Казанцев, 1956: 474).
29
См., например: «Роман Ивана Ефремова ответил духу времени. Он стал поворотной вехой в истории советской научно-фантастической литературы. Годом его выхода в свет датируется начало самого плодотворного периода в нашей фантастике» (Бритиков, 1970: 220).
30
«Роман Ефремова – один из самых научно убедительных в мировой утопической традиции» (Бритиков, 1970: 222); «Этот роман, во многом новаторский, в то же время представляет собой продолжение и развитие в новых общественно-исторических условиях традиционной линии социально-утопической фантастики» (Черная, 1972: 92–93).
31
Например: «Никто не может оспорить важности и необходимости коллективного, общественного воспитания для будущего члена общества. И все же представляется, что писатель слишком категорично и просто решил эту проблему, обеднив тем самым мир будущего, чувства и переживания своих героев. Ефремов фактически низводит роль матери до роли кормилицы…» (Черная, 1972: 102).
32
«Планета мрака», конечно, напоминает о уэллсовских попытках вообразить «ночь мира» и «конец самой жизни» (Busch, 2009: 2), о которых шла речь в главе «Утопическое желание: „современная утопия“ и Герберт Уэллс».
33
Стоит подчеркнуть, что в еще более отдаленном коммунистическом будущем, представленном в позднем романе Ефремова «Час Быка» (1968–1969), эта война по‐прежнему чрезвычайно актуальна. Корни этой риторики можно обнаружить и в романе Уэллса «Люди как боги», и, особенно отчетливо, в «Красной звезде» Богданова. Ср.: «Мир был совершенно очищен от вредных насекомых, сорняков, всяческих гадов и животных, опасных для человека. Исчезли москиты, домашняя муха, навозная муха и еще множество всяких мух; они исчезли в результате широчайшей кампании, потребовавшей огромных усилий и длившейся несколько веков. Было несравненно легче избавиться от таких крупных врагов, как гиены и волки, чем от этих мелких вредителей» (Уэллс, 1964б [1923]: 202–203); «У нас царствует мир между людьми, это правда, но нет мира со стихийностью природы, и не может его быть. А это такой враг, в самом поражении которого всегда есть новая угроза» (Богданов, 1908: 76). Оба, и Уэллс, и Богданов, упоминают «какие‐то атавистические черты, нечто весьма древнее» (Уэллс, 1964б [1923]: 351), «неясные отзвуки в атавистической глубине детских инстинктов» (Богданов, 1908: 66), которые дремлют в обитателях совершенного мира и, соответственно, могут быть неожиданно разбужены. Уэллс, впрочем, учитывает тот набор претензий, который я пытаюсь сейчас предъявить утопии, и иронизирует над ним, присваивая его одному из персонажей, землянину начала ХХ века, чувствующему себя некомфортно на утопической планете: «Его блестящий прямолинейный ум вцепился в тот факт, что каждый этап очищения Утопии от вредителей, паразитов и болезней сопровождался возможностью каких‐то ограничений и утрат <…> Жизнь на Земле, признал он, полна опасностей, боли и тревог, полна даже страданий, горестей и бед, но кроме того – а вернее, благодаря этому – она включает в себя упоительные мгновения полного напряжения сил, надежд, радостных неожиданностей, опасений и свершений, каких не может дать упорядоченная жизнь Утопии. „Вы покончили с противоречиями и нуждой. Но не покончили ли вы тем самым с живыми и трепещущими проявлениями жизни?“» (Уэллс, 1964б [1923]: 207–208).
34
Такого рода дисциплина желания, конечно весьма характерная для советской фантастики, в значительной степени воспитывалась и подпитывалась специфической идеологемой «реалистичной мечты», упоминавшейся в предыдущей главе. Примечательно, что в следующем произведении Ефремова о коммунистическом будущем – в повести «Сердце Змеи» (1959) – земляне все же сталкиваются в космосе с экипажем инопланетного корабля. Но поскольку обитатели далекой планеты дышат не кислородом, а фтором, прямой контакт вновь оказывается невозможным (это разочарование особым образом подчеркивается) – представители двух цивилизаций вынуждены общаться друг с другом через прозрачный экран. Наконец, в романе «Час Быка» «эра Великого Кольца» сменяется «эрой Встретившихся Рук» – человечество изобретает сверхсветовые звездолеты, однако лишь для того, чтобы отправиться на отдаленную планету Торманс, которая неожиданно оказывается земной колонией, заселенной много веков назад, еще в докоммунистическую эпоху.
35
О геометрии утопического пространства и, в частности, семантике круга см.: Marin, 1990: 102–103; Gervereau, 2000: 357–359.
36
См. также другие репортажи этого цикла в № 11 и 12 «Юности» за тот же год.
37
О диапазоне реакций на принятие третьей Программы см. также: Фокин, 2012: 132–190.
38
См. размышление об «оттепели» как социальном событии: Кукулин, 2015.
39
См. также о советской риторике «восторга» и религиозных контекстах этого понятия: Богданов, 2009б.
40
В 1980 году, когда обещанный коммунизм так и не наступит, но лидером советского кинопроката станет фильм «Москва слезам не верит» (персонажи которого как раз проживают двадцатилетие, распланированное в третьей Программе), тема чистки ботинок вновь будет транслироваться как неожиданно значимая, правда, уже в мелодраматическом варианте: «– Ботинки‐то при чем? – А терпеть не могу, когда у мужика нечищеная обувь».
41
Ср. развитие этой же темы в романе Герберта Уэллса «Люди как боги»: подчеркнуто карикатурные персонажи, попадая на стерильную утопическую планету, осознают свое стратегическое преимущество – «способность заражать бациллами других, самим же оставаться здоровыми» (Уэллс, 1964б [1923]: 275).
42
Обоснование моего подхода к работе с понятием «поколения» см.: Каспэ, 2005: 13–21.
43
Так, Катарина Уль, исследуя «оттепельный» дискурс о молодежи на основе материалов «Комсомольской правды», описывает его прежде всего как проявление «моральной инженерии» с целью «мобилизации и дисциплинирования» (Уль, 2011: 283) – эта оптика мне не очень близка.
44
О коллективном поиске, в процессе которого формировалась редакционная политика журнала, см.: Барнёва, 2010: 240, 243.
45
Сокращенный вариант этой работы: Рожанский, 2007. Здесь и далее цитируется по полному, неопубликованному варианту статьи, любезно предоставленному автором.
46
Рожанский постулирует связь между социальным энтузиазмом героев его исследования и актуализацией «вопросов о смысле жизни» (Там же).
47
О концепции Алексея Леонтьева в контексте экзистенциальной проблематики см. также: Леонтьев, 2007 [1998].
48
Об отождествлении в интересующий нас период «юности» и членства в ВЛКСМ см.: Козлов, 2015. По наблюдению Дмитрия Козлова, нижняя граница юности, как правило, определялась в соответствии с возрастом вступления в комсомол: до 1954 года – 15 лет, в дальнейшем – 14.
49
Одно из немногих исключений – публикация цикла коротких рассказов Анатолия Приставкина «Трудное детство» о детдоме военного времени (Приставкин, 1959).
50
Ср. использование таких терминов, как «тревога» и даже «паника», для описания эмоций, которые «старшее» поколение испытывало по отношению к «молодому»: (Уль, 2011: 281, 284). Хотя Катарина Уль оговаривает, что в XX веке культурный статус молодости подразумевает, в числе прочего, проекцию «взрослых страхов» и тревожная эмоциональная окраска характерна для любых поколенческих сюжетов, стоит заметить, что эта окраска далеко не во всех случаях определяет исследовательскую риторику. См. также о конструировании на рубеже 1950–1960-х годов образов девиантной молодости («хулиганы», «стиляги», «тунеядцы»): Fürst, 2006.
51
Книга действительно была вскоре издана: Архипова, 1969.
52
О различных контекстах понятия «личность» в дискурсивных практиках позднего социализма см.: Бикбов, 2014: 195–237.
53
См. также: Борко, 1956 и продолжение разговора позднее – Иванова, 1956; или: Почему скучно Людмиле, 1962 и продолжение разговора – Долинина, 1963.
54
Именно такое понимание «настоящего» фиксирует на своем материале в упоминавшемся выше исследовании Михаил Рожанский (Рожанский, 2007).
55
Подробнее об этом в главе «Утопическое ви́дение: несколько фотографий».
56
См. блог Межуева в «Живом журнале»: http://magic-garlic.livejournal.com/15151.html и https://magic-garlic.livejournal.com/15501.html.
57
Здесь и далее в этой главе я указываю в скобках год написания произведения – для моих целей он более важен, чем год публикации.
58
См. обсуждение в «Живом журнале: http://katherine-kinn.livejournal.com/65491.html?thread=1079251#t1079251.
59
Еще раз подчеркну – схематичное противопоставление «частного» и «публичного» устраивает меня постольку, поскольку речь идет именно об идеальном, ценностном измерении.
60
Этимология лингвистических метафор, включая метафору перевода, о которой пойдет речь ниже, в данном случае вполне прозрачна – Аркадий Стругацкий был переводчиком. Ср. также предположение о его причастности к «Московскому методологическому кружку» Георгия Щедровицкого, где термины «семиотика» и «структура» были в ходу: Howell, 1994.
61
В особенности см. цитировавшийся в предыдущей главе диалог о «смысле жизни» из материала журналистки Любови Архиповой; материал был подготовлен в 1968 году – спустя шесть лет после публикации «Полдня».
62
См. о множественности «кодов комического» в «Понедельнике»: Kozlowski, 1994.
63
Ср. восприятие и оценку такого жанрового сбоя как писательской неудачи: Кайтох, 2003 [1993].
64
Немаловажно, что авторство этого афоризма принадлежит вымышленному Стругацкими же писателю Строгову. Хотя и, как вспоминает Борис Стругацкий, «с эпиграфом получился маленький конфуз»: спустя несколько лет после первой публикации «Волн» обнаружилось, что по совпадению тот же афоризм был придуман вполне реальным писателем Михаилом Анчаровым и использован в одной из его повестей 1960–1970-х годов (Стругацкий Б., 2003 [1998–1999]: 281–282).
65
Ср. появление во второй половине 1980-х годов воспоминаний об особом читательском опыте – замещающем «повседневную реальность», «жизнь», «социальный опыт». Подобные читательские практики датируются в диапазоне от 1950-х до 1970-х, но при этом, как правило, тесно связываются с поколенческой идентичностью, признаются специфической особенностью того или иного «советского» поколения. Англоязычная книга Иосифа Бродского «Less Than One: Selected Essays» (1986) побуждает Александра Мулярчика к следующим размышлениям: «Давид Копперфильд и Петруша Гринев, герои Гайдара и Васек Трубачев, «пятнадцатилетний капитан» Дик Сэнд и катаевский «сын полка» – все они, невзирая на разность эпох и различие своего окружения, делались надежными спутниками, присутствие которых во многом заменяло и замещало повседневную реальность. «Действительность, которая не отвечает критериям, выставляемым литературой, и игнорирует их, неполноценна и недостойна того, чтобы с ней считаться. Так думали мы тогда, и я убежден, что мы были правы», – утверждает Бродский…» (Мулярчик, 1990). См. также: Новиков, 1990; Бежин, 1990.
66
См. ответы на вопросы читателей на официальном сайте фантастов: http://www.rusf.ru/abs/int0075.htm.
67
Ср.: «„Сталкер“ одно из немногих придуманных АБС слов, сделавшееся общеупотребительным. <…> Происходит оно от английского to stalk <…> Между прочим, произносится это слово как «стоок», и правильнее было бы говорить не „сталкер“, а „стокер“, но мы‐то взяли его отнюдь не из словаря, а из романа Киплинга, в старом, еще дореволюционном, русском переводе называвшегося „Отчаянная компания“ (или что‐то вроде этого)» (Стругацкий Б., 2003 [1998–1999]: 207).
68
Понятие досуга получает официальную санкцию на рубеже 1950–1960-х годов. Именно в этот период стартуют первые социологические проекты (под руководством Германа Пруденского и Василия Патрушева), исследующие на материале опросов поведение респондентов (то есть «трудящихся») в быту; а несколько позднее, в известной книге Бориса Грушина, оформляется законченная концепция «социологии свободного времени» (Грушин, 1967). Идея высвобождения персональных временны́х ресурсов выражается через определенную социальную политику: через серию документов о сокращении рабочего дня (начиная с указа Президиума Верховного Совета СССР 1956 года «О сокращении продолжительности рабочего дня для рабочих и служащих в предвыходные и предпраздничные дни») и ряд директив, обращенных к службам быта (постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мероприятиях по улучшению работы предприятий общественного питания», 1956; «О дальнейшем улучшении бытового обслуживания населения», 1962 и др.) – см.: Орлов, 2007.
69
См. также: Советский простой человек, 1993.
70
Строго говоря, первые признаки такого визуального раскрепощения можно обнаружить в карикатурах конца 1940-х, когда «Крокодил» приступает к проекту разоблачения (и, безусловно, конструирования) воображаемого сообщества «стиляг» (Yurchak, 2006: 172–174). Однако уже в начале 1950-х, в особенности после выхода постановления «О недостатках журнала „Крокодил“…», тема стиляжничества оказывается отложенной до «оттепельных» времен, а «Крокодил» на несколько лет возвращается к суровому и бедному изобразительному канону.
71
См. о значении процедуры «перекодировки» и вообще практиках повышенной семиотизации повседневности в обществе позднего социализма: Ушакин, 2007; а также, независимо от этого исследования: Каспэ, 2007.
72
См. первые и, на мой взгляд, вполне продуктивные попытки работать в этом направлении: Кукулин, 2017; Майофис, Кукулин, 2017. Собственно, текст данной главы – результат участия в коллективном исследовательском проекте, инициированном Марией Майофис и Ильей Кукулиным.
73
Об этом медийном режиме см. также: Faraday, 2000; Балина, 2007.
74
О физическом пространстве и визуализации сетей см.: White, 1992: 70–71, 323.
75
Чтобы увидеть, насколько специфическим образом здесь рассказываются истории стирания социальной идентичности, стоит сравнить упомянутые выше фильмы с комедией Франсиса Вебера «Игрушка» (1976), популярной в позднем СССР. В «Игрушке» тоже присутствует мотив позорного публичного обнажения, но он встраивается в рациональный нарратив социальной критики: «Вы представляете себе, что должен чувствовать человек, когда его в одном белье вталкивают в зал, где полно людей? Нет? Сейчас вы представите» или «Вы, стало быть, способны остаться совсем голым и в таком виде обойти редакцию?.. Так кто же из нас хуже… кто из нас чудовище: я, приказавший вам скинуть брюки, или вы, готовый оголить свой зад?»
76
См. размышления о Деточкине как о «промежуточном герое», «трикстере»: Прохоров, 2007: 255.
77
См. главу «Утопическое ви́дение: несколько фотографий».
78
Подробнее об этом: Каспэ, 2010. См. также предыдущую главу – «Обживая ничье пространство: „частная жизнь“ в карикатурах журнала „Крокодил“».
79
Сведения о респондентах см. в конце этой части книги.
80
О семантике локализации советских военных памятников см., напр.: Габович, 2015.
81
На связь этих тезисов с официальным советским нарративом о Ленинградской блокаде указывает Станислав Львовский; по его же наблюдению, именно с этим текстом Секацкого «находится в прямом диалоге» стихотворение Виталия Пуханова «В Ленинграде, на рассвете» (Львовский, 2009: 263).
82
Передача «Человек из телевизора» на радио «Эхо Москвы», 10 мая 2014 года: http://echo.msk.ru/programs/persontv/1316792–echo/.
83
См. исследования Михаила Тимофеева, посвященные «использованию материнского образа в мемориальном искусстве». В числе прочего, анализируя советские коммеморативные практики, Тимофеев показывает, что этот образ преимущественно задействовался в скорбных контекстах – «его локализация связана чаще всего с мемориалами, созданными на месте погребения и находящимися на периферии городских поселений» (Тимофеев, 2015: 50). Об истории образа Родины-Матери в российской и советской визуальной культуре в целом см.: Рябов, 2006; Рябов, 2014. См. также: Сандомирская, 2001.
84
См., например, размышления Сергея Зенкина, опирающиеся на рикёровскую концепцию памяти и забвения: https://www.facebook.com/sergey.zenkin.3/posts/740934546023160; или материалы семинара, организованного интернет-журналом «Гефтер» и посвященного обсуждению книги Марии Степановой «Памяти памяти»: http://gefter.ru/archive/24137.

Тема сборника лишь отчасти пересекается с традиционными объектами документоведения и архивоведения. Вводя неологизм «документность», по аналогии с термином Романа Якобсона «литературность», авторы — известные социологи, антропологи, историки, политологи, культурологи, философы, филологи — задаются вопросами о месте документа в современной культуре, о социальных конвенциях, стоящих за понятием «документ», и смыслах, вкладываемых в это понятие. Способы постановки подобных вопросов соединяют теоретическую рефлексию и анализ актуальных, в первую очередь российских, практик.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Б. Поплавскому, В. Варшавскому, Ю. Фельзену удалось войти в историю эмигрантской литературы 1920–1930-х годов в парадоксальном качестве незамеченных, выпавших из истории писателей. Более чем успешный В. Набоков формально принадлежит тому же «незамеченному поколению». Показывая, как складывался противоречивый образ поколения, на какие стратегии, ценности, социальные механизмы он опирался, автор исследует логику особой коллективной идентичности — негативной и универсальной. Это логика предельных значений («вечность», «смерть», «одиночество») и размытых программ («новизна», «письмо о самом важном», «братство»), декларативной алитературности и желания воссоздать литературу «из ничего».

Вниманию читателей предлагается первое в своём роде фундаментальное исследование культуры народных дуэлей. Опираясь на богатейший фактологический материал, автор рассматривает традиции поединков на ножах в странах Европы и Америки, окружавшие эти дуэли ритуалы и кодексы чести. Читатель узнает, какое отношение к дуэлям на ножах имеют танго, фламенко и музыка фаду, как финский нож — легендарная «финка» попал в Россию, а также кто и когда создал ему леденящую душу репутацию, как получил свои шрамы Аль Капоне, почему дело Джека Потрошителя вызвало такой резонанс и многое, многое другое.

Книга посвящена исследованию семейных проблем современной Японии. Большое внимание уделяется общей характеристике перемен в семейном быту японцев. Подробно анализируются практика помолвок, условия вступления в брак, а также взаимоотношения мужей и жен в японских семьях. Существенное место в книге занимают проблемы, связанные с воспитанием и образованием детей и духовным разрывом между родителями и детьми, который все более заметно ощущается в современной Японии. Рассматриваются тенденции во взаимоотношениях японцев с престарелыми родителями, с родственниками и соседями.

В монографии изучается культура как смыслополагание человека. Выделяются основные категории — самоосновы этого смыслополагания, которые позволяют увидеть своеобразный и неповторимый мир русского средневекового человека. Книга рассчитана на историков-профессионалов, студентов старших курсов гуманитарных факультетов институтов и университетов, а также на учителей средних специальных заведений и всех, кто специально интересуется культурным прошлым нашей Родины.
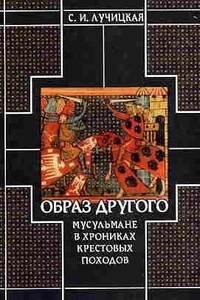
Книга посвящена исследованию исторической, литературной и иконографической традициям изображения мусульман в эпоху крестовых походов. В ней выявляются общие для этих традиций знаки инаковости и изучается эволюция представлений о мусульманах в течение XII–XIII вв. Особое внимание уделяется нарративным приемам, с помощью которых средневековые авторы создают образ Другого. Le present livre est consacré à l'analyse des traditions historique, littéraire et iconographique qui ont participé à la formation de l’image des musulmans à l’époque des croisades.
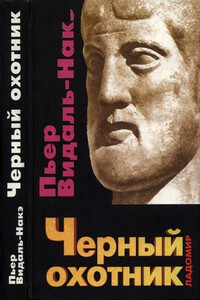
Пьер Видаль-Накэ (род. в 1930 г.) - один из самых крупных французских историков, автор свыше двадцати книг по античной и современной истории. Он стал одним из первых, кто ввел структурный анализ в изучение древнегреческой истории и наглядно показал, что категории воображаемого иногда более весомы, чем иллюзии реальности. `Объект моего исследования, - пишет он, - не миф сам по себе, как часто думают, а миф, находящийся на стыке мышления и общества и, таким образом, помогающий историку их понять и проанализировать`. В качестве центрального объекта исследований историк выбрал проблему перехода во взрослую военную службу афинских и спартанских юношей.
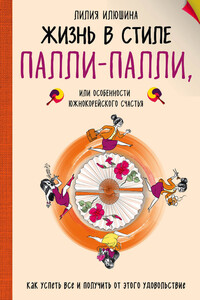
«Палли-палли» переводится с корейского как «Быстро-быстро» или «Давай-давай!», «Поторапливайся!», «Не тормози!», «Come on!». Жители Южной Кореи не только самые активные охотники за трендами, при этом они еще умеют по-настоящему наслаждаться жизнью: получая удовольствие от еды, восхищаясь красотой и… относясь ко всему с иронией. И еще Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться. Психолог Лилия Илюшина, которая прожила в Южной Корее не один год, не только описывает особенности корейского характера, но и предлагает читателю использовать полезный опыт на практике.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.