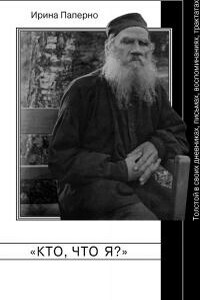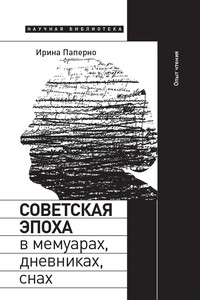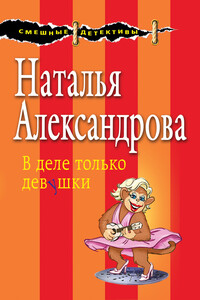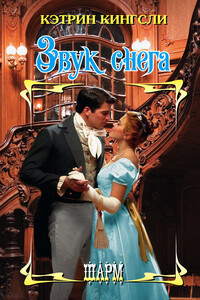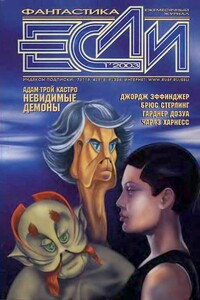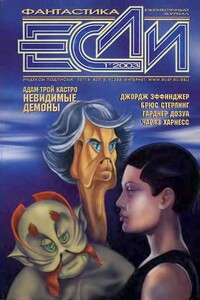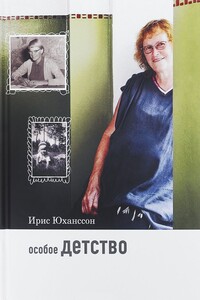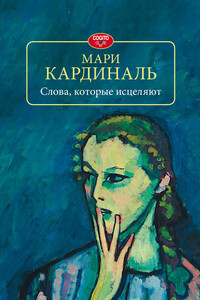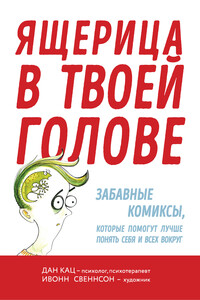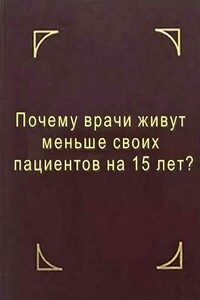Самоубийство всегда представлялось человеку загадочным и непостижимым явлением. В массовом сознании это — роковая тайна, «тайна, которая обыкновенно уносится на тот свет, а на этом остается лишь мертвое тело…»[1]. Таков образ, созданный в девятнадцатом веке в газетах и журналах, прозой и стихами: «взорам любопытных» представляется «обезображенный труп», с недоумением и испугом глядят они на «тело самоубийцы» — «причины, побудившие его лишить себя жизни, неизвестны»[2]. Неизвестны причины, недоступен и самый опыт:
Чернеет на виске проклятое пятно!..
Унес с собой он тайну роковую
Последних дум своих, последних дней…
И что сгубило жизнь его младую, —
Осталося загадкой для людей
[3].
В научном сознании самоубийство также представляется неразрешенной загадкой, ученые затрудняются не только в объяснении, но и в определении самоубийства[4]. В двадцатом веке психологи, взяв на себя обсуждение этой проблемы, выражают готовность признать ее неразрешимой. В апреле 1910 года Венское психоаналитическое общество посвятило заседание самоубийству; в заключение Фрейд сказал: «Воздержимся от суждения, предоставив человеческому опыту разрешить эту проблему»[5]. В 1936 году психоаналитик Грегори Зилбург, организовавший в Нью-Йорке Комитет по изучению самоубийства, сделал следующее заявление: «Ясно, что с научной точки зрения проблема самоубийства остается неразрешенной. Ни житейская мудрость, ни клиническая психопатология не нашли ни причины, ни эмпирического решения этого вопроса»[6]. В 1973 году «Британская энциклопедия» заказала статью «Самоубийство» председателю Американской Ассоциации суицидологии Эдвину Шнейдману; вот что говорит его устами энциклопедия: «На самом деле никто не знает, почему люди кончают жизнь самоубийством»[7]. В 1988 году другой психолог, Антоон Леенаарс, начал этими словами свое исследование предсмертных записок самоубийц[8]. Никто не знает, включая и самого самоубийцу.
Самоубийство представляется нам «черной дырой» — прорывом в ткани смысла, которую плетет человек. Самим своим поступком — актом отрицания — самоубийца ставит под сомнение идею осмысленности жизни; оставаясь загадкой, этот акт бросает вызов возможностям человеческого разума. В течение веков философы и художники, медики и социологи, правоведы и психологи старались наделить самоубийство смыслом, заполнить «черную дыру». Культура превратила самоубийство в своего рода лабораторию смыслообразования — лабораторию для разрешения фундаментальных вопросов: свобода воли, бессмертие, соотношение души и тела, взаимодействие человека и Бога, индивида и общества, отношение субъекта и объекта. Не разрешив вопроса о том, почему люди кончают жизнь самоубийством, человек создал множественные смысловые структуры, с особой отчетливостью иллюстрирующие самый процесс культурной работы.
Цель этой книги проследить, каким образом жизненный акт — самоубийство — становится фактом культуры и в этом качестве явлением историческим. Окружая человеческие действия ореолом символических смыслов, культура придает им метафизическую и социальную значимость. Именно в таком смысле я называю самоубийство «культурным институтом»[9]. В мою задачу не входит ни объяснение того, почему люди кончают жизнь самоубийством, ни описание феноменологии самоубийства. Эта книга посвящена исследованию процесса осмысления человеческого опыта.
В центре моего внимания — самоубийство в России. Хронологические и дисциплинарные рамки этого исследования определены имеющимся материалом. Следуя за материалом, историк волей-неволей очерчивает конфигурации установлений культуры — человеческий опыт становится явлением культуры именно тогда, когда он документируется в анналах истории (в пределах определенных дисциплин или отраслей знания). В анналах русской истории самоубийство впервые появляется в Средневековье в качестве предмета канонического права, не занимая, однако, значительного места в культуре. В 1790-е годы, с проникновением в Россию сентиментализма (в частности, культа гетевского «Вертера»), культуры Просвещения и Французской революции (с их понятием о гражданском и философском смысле самовольной смерти), самоубийство становится темой литературных и философских медитаций и культурно значимой моделью поведения. Количество документальных свидетельств этому, однако, невелико. Относительно немного следов оставила проблема самоубийства и в культуре русского романтизма, в то время как в западноевропейском романтизме самоубийство играло заметную роль. Начиная с 1830-х годов самоубийство, впервые в России, становится предметом статистических исследований и газетных хроник, т. е. социальным явлением, подлежащим оглашению и квантификации, хотя и в строго ограниченных пределах. В эти годы (1830–1840) в Западной Европе самоубийство занимает центральное место в развитии естественнонаучной и общественной мысли. В России лишь в 1860-е годы, в ходе реформ, создавших открытые суды, статистические комитеты, органы местного самоуправления и массовую печать, самоубийство становится предметом всеобщего интереса — объектом научных статей и юридических дебатов, актуальной темой русского романа и, главное, предметом обсуждения в периодической печати. Период 1860–1880-х годов оставил по себе обширный материал о культурной роли самоубийства. В годы реформ, совпавших с интеллектуальной революцией — наступлением позитивизма и атеизма, самоубийство становится одним из центральных символов эпохи. С середины 1880-х годов наблюдается спад внимания к этой теме. Новая эпоха расцвета в истории самоубийства наступила после революции 1905 года: в период между 1906 и 1914 годами, русская печать занята активным обсуждением самоубийства, вновь приобретшего статус «знамения времени»