В молчании - [12]
§ 15. Сумрак
Не перестает приближаться. Что ж, продолжим. Если, конечно, здесь уместно говорить о продолжении. Но взгляните, какой странный у него почерк. Пробелов между словами едва ли не больше, чем самих слов. Да и, кажется, белизна продолжает стирать строку за строкой. Букв все меньше и меньше. Неужели не замечаете? Вот-вот и его самого застят эти сияющие лакуны. Как притягательно. Как пугающе невыразимо. Голова все еще наклонена. Но никакой сонливости. Почему-то продолжает ждать, что сквозь белизну проступят слова. Обозначатся черными ожогами или еще как-то. Он не решается признаться себе, что боится именно этой минуты, что слова и есть главный источник его боязни. Он и не призна́ется. Да и в страхе ли дело? Пока только снежное спокойствие. Только ослепление. Может быть – глухой шум, стоны, мелкая пыль неба. Так все и будет тянуться – одно за другим. Что-то хорошее, что-то невыносимое – постепенно разница начнет стираться. Просто будет длиться что-то, и пусть. По очереди или все сразу. Немота в завязях тумана. Когда-нибудь буквы прорастут сквозь метель. Как черные лучи странного, навсегда потерянного, ненужного маяка. Откуда-то эта болезненная надежда. Зачем-то это ликующее отчаяние. Под выцветшими облаками. В окружении стен, исполосованных прозрачными царапинами. За изгородью, обвитой лишайником невидимых морщин. Их притворная моложавость вот-вот рассыплется, может быть уже рассыпалась в пыль. Но прежде чем стать бесконечной, этой истории нужно начаться. Рано или поздно это должно случиться. Что же я вижу. Зевающие, скучные улыбки, смуглую вогнутость несуществующих лиц. Неисполненные обещания, безукоризненно стертые имена, их беззвучный топот. Всю эту малость. Даже если слова повествования не приходят, могут появиться другие, описывающие отсутствие. Но уже давно нет и их. На бумаге оседает только иней чужого дыхания. Неживая, едва колышущаяся пена. Лишь иногда еще неуместная вера, что вдруг удастся, как когда-то, записывать первое, что приходит в голову. Фиксировать все, о чем мимолетно задумался. Откуда-то брались силы на это. Так было раньше, неизвестно когда. А теперь уже почти не жаль, что мыслей толком нет. И все же – еще одной строкой больше. Так может дойти до чего-то, кто знает. Еще раз судорожно подсчитать страницы. Так же ничтожно мало. Кто бы сомневался. А из-за постоянных сокращений и вычеркиваний, кажется, даже еще меньше. Может быть, добавить еще больше абзацев. Или начинать каждый абзац с новой страницы. Не поможет. Может быть, поступать так с каждым словом. С каждой буквой. Вот до чего дошло. Нет, лучше снова удалить все красные строки. Снова писать так, как будто разбиение на абзацы еще не изобретено. Может быть. На месте стоит лишь проза, но кажется, что остановилось все. Или подождать. Еще немного, еще пару лет. Пока рассказ (ясно, что не роман) наконец не сложится сам. Пространный афоризм, не претендующий на выразительность. Нет, что-то упрямо говорит о том, что здесь будет иначе. Строка к строке, все опять станет нагромождаться друг на друга, как дождевые потоки. К счастью, с этим удалось разобраться, это удалось остановить, но осталось еще самое главное – неисполненное обязательство предотвратить саму возможность повторения. И это закрытие занавеса необходимо осуществить внутри письма, иначе окончательность остановки не будет подлинной. Именно запись должна уничтожить потребность в записывании. Должно быть так. Откуда-то эта убежденность. Но не лучше ли было вообще не ввязываться в это? Кто спорит, но вопрос теряет смысл для всех, кто начал с опоздания. Точкой отсчета для летописи мира всегда оказывается забвение. И все же письмо нужно беспамятству, чтобы указывать на себя. Это указание и остается отсутствием желанной преграды. Нагромождаясь, наслаиваясь друг на друга, неначатые строки стираются. Замерзают. Снова сияют густой белизной. От которой можно ослепнуть. От которой нельзя спастись. Дымчатые узоры, бледные следы необутых ног, колышущаяся острота звезд. О них можно подумать. Снова уставиться на них. Представить, что они немного похожи на буквы. Их тени тоже искривлены ознобом. Знакомый, чуть взломанный почерк. Не принадлежащий никому. Взгляните. Смысла пока не разобрать. Чуть позже он, может быть, прояснится. Уже завтра или еще раньше. Может быть, прямо сейчас. Пока – только пенный лед и весь этот нескончаемый клекот под ним. Герои все так же время от времени заходят в его комнату, чтобы помолчать. Что ж, он научился различать все нюансы их безмолвия. Говор, который и не думает начинаться. Что? Вижу. Сумерки и метель обволакивают друг друга, но белое и черное не сереют. С каждой минутой темнота становится еще немного темнее, но не настолько, чтобы совсем перестать сгущаться. Всегда сохраняет эту возможность темнеть еще больше. А белый лист, кажется, начинает сильнее светиться, напоминать об отсутствии слов. Он стал еще белее. Зачем-то. Отступающие мысли, серебряные вспышки, проигравшие сражение надвигающейся на них бесцветности. Белой, как сам белый цвет. Как он есть. Мгла, раскрывающаяся еще больше, застящая все. Последняя белизна, но не в том смысле, что ее больше не будет. Отныне будет только она. Вечно бледная. Это и есть истинный цвет слова. Лишь неприметная траурная кайма по краям. Столь очевидная, что ее материализация необязательна. Сумасшествие, едва слышная ворчащая брань. Отголоски трескучих криков. Их безымянная, бьющаяся о стены отторженность. Сухая пыль мира в зазубринах тишины. Забвение. Мои зашитые веки.

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте.

В мире, где даже прошлое, не говоря уже о настоящем, постоянно ускользает и рассыпается, ретроспективное зрение больше не кажется единственным способом рассказать историю. Роман Анатолия Рясова написан в будущем времени и будто создается на глазах у читателя, делая его соучастником авторского замысла. Герой книги, провинциальный литератор Петя, отправляется на поезде в Москву, а уготованный ему путь проходит сквозь всю русскую литературу от Карамзина и Радищева до Набокова и Ерофеева. Реальность, которая утопает в метафорах и конструируется на ходу, ненадежный рассказчик и особые отношения автора и героя лишают роман всякой предопределенности.
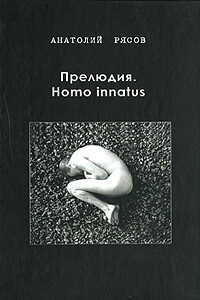
«Прелюдия. Homo innatus» — второй роман Анатолия Рясова.Мрачно-абсурдная эстетика, пересекающаяся с художественным пространством театральных и концертных выступлений «Кафтана смеха». Сквозь внешние мрак и безысходность пробивается образ традиционного алхимического преображения личности…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
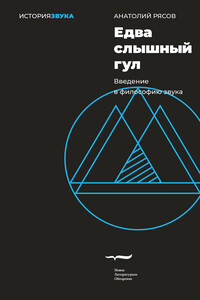
Что нового можно «услышать», если прислушиваться к звуку из пространства философии? Почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства, а чаще и вовсе не покидает территории техники? Эти вопросы стали отправными точками книги Анатолия Рясова, исследователя, сочетающего философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна «Мосфильм». Обращаясь к концепциям Мартина Хайдеггера, Жака Деррида, Жан-Люка Нанси и Младена Долара, автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноменологического дискурсов, но одновременно – как загадочные лакуны в истории мысли.

Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне (США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Публиковалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое Литературное обозрение». Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в «эксперименте века» по программированию личности.

Действие книги известного болгарского прозаика Кирилла Апостолова развивается неторопливо, многопланово. Внимание автора сосредоточено на воссоздании жизни Болгарии шестидесятых годов, когда и в нашей стране, и в братских странах, строящих социализм, наметились черты перестройки.Проблемы, исследуемые писателем, актуальны и сейчас: это и способы управления социалистическим хозяйством, и роль председателя в сельском трудовом коллективе, и поиски нового подхода к решению нравственных проблем.Природа в произведениях К. Апостолова — не пейзажный фон, а та материя, из которой произрастают люди, из которой они черпают силу и красоту.

Что происходит с Лили, Журка не может взять в толк. «Мог бы додуматься собственным умом», — отвечает она на прямой вопрос. А ведь раньше ничего не скрывала, секретов меж ними не было, оба были прямы и честны. Как-то эта таинственность связана со смешными юбками и неудобными туфлями, которые Лили вдруг взялась носить, но как именно — Журке невдомёк.Главным героям Кристиана Гречо по тринадцать. Они чувствуют, что с детством вот-вот придётся распрощаться, но ещё не понимают, какой окажется новая, подростковая жизнь.

Ирина Ефимова – автор нескольких сборников стихов и прозы, публиковалась в периодических изданиях. В данной книге представлено «Избранное» – повесть-хроника, рассказы, поэмы и переводы с немецкого языка сонетов Р.-М.Рильке.

Сборник «Озеро стихий» включает в себя следующие рассказы: «Храбрый страус», «Закат», «Что волнует зебр?», «Озеро стихий» и «Ценности жизни». В этих рассказах описывается жизнь человека, его счастливые дни или же переживания. Помимо человеческого бытия в сборнике отображается животный мир и его загадки.Небольшие истории, похожие на притчи, – о людях, о зверях – повествуют о самых нужных и важных человеческих качествах. О доброте, храбрости и, конечно, дружбе и взаимной поддержке. Их герои радуются, грустят и дарят читателю светлую улыбку.
