В молчании - [11]
§ 13. Океан
Однажды, в последнюю очередь его снова можно будет так назвать. Устье всех ручьев и рек. Когда-нибудь стены пещеры проглотят всякое эхо. Ты будешь кричать громче и громче, но не услышишь ответа. Комната перестанет звучать. Противясь скоплению прошлого, захочет освободиться от всякой информации, избавиться от тебя. Преуспеет в этом. Стесненное эхо немоты и будет зовом наружу. Скупым на слова, беззвучным. Океан тоже замолчит. Все станет молчанием океана. Босиком по гнилым, хрустящим водорослям, комковатому песку, режущим пальцы камням, щетине колких травинок. В необоснованной и потому неуемной радости. Мимо мертвых, раскинувших худые крылья птиц и не взлетевших бабочек, чьи зачерствелые лапки давно застыли, как веточки крохотных растений, как тонкие, просоленные лучи заскорузлой морской звезды. Мимо приоткрытых ракушек и расколотых панцирей, обвитых серебряной гнилью высохшей пены. Мимо ярко-синих медуз, забытых отливом на песке. Мимо мертвых рыб. Мимо кривых теней, мглистых рытвин и темных венков. В серой, благоговейной грязи, испещренной лохмами незаметных игл и обволакиваемой курящимся паром. Мимо руин. Мертвые городища, рассыпанные вдоль побережья щепки разбитых кораблей. Величественные, пылающие обломки. Последние, прозрачные образы. Скоро и они исчезнут. В глухой пустоте, прорезаемой лишь вскриками чаек и каким-то еще едва слышным гомоном. В прощальном сиянии. Меж ярких точек. Не нужно будет смотреть. Закроешь глаза и продолжишь вслушиваться во все эти отзвуки, в хруст непроизнесенных слов. Невыносимость тишины, проросшей сквозь природу. Обещающей что угодно, в том числе и зыбкую, неспокойную возможность смысла. К вящему ужасу, завораживающему, вытесняющему любые другие чувства. И все же – изумление, почти отрада, взрыв, внезапная четкость, манящая прозрачность, озаряющее изящество мира. Под красным небом. Безымянные, но как никогда знакомые вещи, торжествующее пребывание на их надтреснутой границе. Вязнущие в песке пальцы. Итак, переступишь движущуюся полосу разбегающейся во все стороны пены. Зайдешь в почти неподвижную, неровную массу ударов и тихого шипения. Застывшую, нет, по-прежнему длящуюся. Сперва – крохотные облачка пыли, зависшие в абсолютной чистоте. Так мелко, что на протяжении долгих часов будет казаться, будто идешь по воде. Так и будет. Слабый шелест. Рядом с притихшей природой. От стертых следов начнет подниматься едва заметный полупрозрачный пар. Еще шаги. Появятся мальки, снующие под ногами. Неспокойная, почти незаметная тень на воде. Без отражения, только тень, касающаяся дна, ее неприметные искривления. Потом и она исчезнет. Шаги. Теперь уже по колено. Идти станет чуть тяжелее. Еще несколько часов. Уже по пояс, по горло. Вода обхватит тело бесцветными морщинами, как цепкая, прозрачная чешуя. Наконец оторвешься от топкой земли. Укроешься в сырых свитках. Сожмешь в кулаках воду. Еще раз вынырнешь на поверхность, на мгновение отделишься от огненных брызг, застынешь в неземном тепле. Внезапно – без ликования. Опять пугающее чувство отброшенности к началу и оттого – бездомности. Блаженного отчаяния. И все же будешь принят. Даже если не истинно, то во всяком случае – как никогда раньше. Добровольно вовлечен в неведомый, опасный обряд. Хоть куда-то принят, пусть и в какое-то преддверие, в темную пазуху, но уже сопричастен. Как тот, кто уже потерял способность отличаться, но пока не успел слиться. Это умение еще предстоит выработать в умирании. Погрузишься в бурление его мышления. Бесформенность потока. Вступишь в нее. Вступишь в ее смутное одиночество. Тело наконец станет прозрачным, почти сольется с другим, ненастоящим телом. Тогда твое молчание сможет немного приблизиться к недостижимому, чистейшему опыту немоты – исконному, никак не связанному с неподобранным словом. А тебя самого уже не будет. К нестерпимому счастью. К нестерпимому счастью. Наконец рассеется все то, что ты мог принимать за жизнь. Открытость океана вольется внутрь растерянного тела, выбросив тебя за привычные пределы. Измученный, ты впервые окунешься в царственную тишь. Безграничная, чарующая пустота, измеряемая, кажется, лишь бесконечностью тревоги – азартной, вскрыляющей. Нет, примет ликования не найти. По-прежнему никаких оснований для упования на благо. Все происходящее, вероятно, и не должно будет иметь к тебе никакого отношения. Все останется невыраженным. Но сохранит возможность сбыться. Скоро станешь изнемогать, задыхаться, внимать молчанию в объятиях воды. Но, может быть, назавтра снова обнаружишь себя на берегу. Выроненным смертью. Потерянным пером птицы-писаря. По-прежнему нет никакой уверенности в том, что ты нужен океану, что он узнал тебя. Пока – лишь едва слышное шелестение внутри молчания. В дымной неподвижности. Что-то еще может начаться. Что-то еще сохраняет свойство быть названным.
§ 14. Забвение
Только оно. Летние волны. Когда ленты нашлись и были оцифрованы, это стало настоящим потрясением. Тем, к чему нельзя подготовиться, что невозможно вспомнить до конца. Порой, затерявшейся на задворках прошлого. Пустынной территорией, котлованом, где память начинает запинаться и буксовать на одних и тех же блеклых эпизодах, теряя самое главное. Главой, не попавшей в летописи, гроссбухи и домовые книги. Как если бы психоаналитик, вместо того чтобы выслушать очередной сбивчивый рассказ, прокрутил на экране склеенную из обрывков жизнь пациента. В ужасающей, изумительной, блаженной тишине. Не нарушаемой даже треском давно потерянного проектора. Но ведь и моя память именно такая: молчащая и выцветшая. И одновременно – включающая все цвета и все звуки. Но как странно: на экране так мало царапин, бликов, пятен. Загадочным образом память успела распасться на невидимые песчинки, а пленка даже не начинала осыпаться. У меня безостановочно текут слезы. И я не смогу объяснить почему. Этот уровень скорби противится сообщению. И все же я заворожен. Отчего-то не закрываю глаза. Из-за слез изображение кажется еще более тусклым. Пожалуй, хватило бы и одной пленки (сколько раз я еще пересмотрю ее? я уже знаю наизусть каждый кадр и все равно не знаю). Да, есть одна – самая важная, та, которую я увидел первой. Именно отсутствие звука делает ее слишком живой, но одновременно предельно далекой. И дистанция все больше растет. Как будто я уношусь на поезде от крохотного и на глазах уменьшающегося полустанка собственной памяти. Наглухо закрытое окно не дает высунуть голову и оглянуться (впрочем, что бы это изменило?), прошлое пятится, отступает еще дальше, теперь уже перрон, окруженный цветущими вишнями, начинает казаться отчалившим в море парусником, волны поднимаются, последние штаги рвутся, все рушится, меркнет, и ничего уже не изменишь. В считаные секунды все это (почти все это) навсегда выветривается из памяти. И чем дальше я удаляюсь, тем величественнее становится размах забытого. Теперь только зыбь. Ее осыпь, ее шум. Ее необъятность. Но в безостановочном рассыпании маслянистые волны никогда не распадаются до конца. Такие тяжелые, они вновь и вновь находят бессилие подняться, собираются по осколку. Как незастывающий воск, в котором каждый раз завязаешь по-новому. Вспышки, которые давно растворились в темноте, вдруг ненадолго возвращаются к жизни, как вроде бы законченный текст, внезапно обнаруживающий недостающие страницы. Крошево воспоминаний. Глава, без которой книга будет неполной. Странно, что я решился написать ее. Ясно, что из этой затеи ничего не выйдет. Ну и что же. Разве это может меня остановить. Из остальных затей ведь тоже ничего не вышло. Эти двадцать пять минут как будто бы сконцентрировали большую часть моего детства. Странное чувство: посвящения в таинство, предназначенное только для меня одного. (Похоже на смерть, правда? Но еще меньше патетики.) Чужаку закрыт вход сюда. Впрочем, для меня он тоже закрыт. Я уже успел потерять свой несчастный билет. Повторяю: это бессмысленно, но все-таки я сейчас все опишу. Сначала эти двадцать пять минут, а потом и все остальные тоже. Для себя. И напоказ. Пусть и это свидетельство утратит достоверность. Это почти не займет времени. Сначала – более поздние, хотя и не самые последние съемки. Мне четыре или, может быть, почти четыре года. Первый кадр: он возникает еще до того, как изображение начнет двигаться. Пространство перед крыльцом. Яблони, которых теперь уже нет, просветы между штакетником (его тоже нет), крыша соседского дома (вот она совсем не изменилась, за исключением того, что теперь под ней никто не живет). Все мутноватое, коричнево-желтое, как на картинах нидерландских мастеров (если только представить, что они покрылись многолетней пылью). Несколько черно-синих пятен и линий, но так только в первые секунды после ракорда. Потом – почти без помех (это и правда удивительно, ведь бобины больше тридцати лет провели в пыльном углу). Камера поворачивается вправо (только при третьем просмотре я пойму, что снимали из-за дома, сначала кажется, что оператор стоит на несуществующей, ничейной территории), терраса еще не обвита виноградом, водосточных труб нет, виден кирпичный фундамент (во всем этом я упорно не хочу признавать дом, мне до сих пор кажется, что эти голые, не прикрытые виноградом камни должны принадлежать какой-то другой, давно снесенной постройке, о существовании которой я забыл). То, что так и осталось непонятым, – это время года. Очень похоже на лето, но яблони и вишни еще в цвету. Какая-то странная, слишком жаркая весна. Она простерта как стена немоты, не позволяющая никуда продвинуться, не сулящая никакой ясности. За ней остается слишком многое не поддающееся расшифровке. Психоаналитик сжульничал: склеив обрывки, он не избавился от трещин между ними, не сумел скрыть то, что осталось якобы вычеркнутым. И я смотрю сквозь эти расселины в заэкранную темноту, заглядываю за черные кулисы – то ли в зрительный зал, то ли, наоборот, за сцену. Впрочем, тогда эта странная пора цветения яблонь и жасмина действительно длилась бесконечно долго. Длинноволосая девушка на траве. С ней рядом сажают ребенка. Снова несколько синих пятен. За зарослями сирени и смородины прячется бабушка (удивительно молодая), она наверняка не хочет, чтобы ее снимали, считает, что слишком ненарядно одета. Она что-то говорит. Девушка надевает на ребенка крохотную рубашку с коротким рукавом и широкополую темно-зеленую панаму. Эту неудобную шляпу он тут же снимает, сворачивает в трубочку и смотрит в нее как в подзорную трубу (камера на траве, ярко-желтые расцветья почти закрывают объектив). За их спинами – какая-то низенькая изгородь (я, кажется, помню ее), выше – редкие просветы между рыжими стволами, в глубине деревьев виднеется новая беседка. Наконец общий план дома. С тех пор он почти не изменился. От этого не по себе. Как от любого чуда. Двенадцать окон огромной веранды (еще без решеток), множество тонких белых реек, на втором этаже – очень похожие, тоже белые и все-таки совсем другие окна: более широкие, центральное – с суживающимся навершием. До того как верхняя терраса стала моей комнатой, здесь всегда работал дед. Я хорошо помню стук печатной машинки, часами раздававшийся со второго этажа. Еще один из его способов высказаться. Пиши. Даже если по странице в день – в год уже больше трех с половиной сотен. Нет, у меня никогда не получится так много, но эти слова я хорошо запомню. Ритмичные щелчки молоточков, звонок, возврат каретки, снова щелчки. Так день за днем. За этими белыми рамами с вечно потрескавшейся краской. Когда запись останавливают, это почти незаметно, пленка все воспроизводит без пауз, просто меняются планы, лишь изредка – мутно-черные перебивки. Вспышки солнца. Поворот вправо. Вдали за хлопьями белых цветов – фары новой машины, дед проездит на ней еще двадцать лет. Ворота потом уберут и сделают гараж с другой стороны дома, но пока они еще на прежнем месте, сливаются с листвой. Иногда по утрам на них сидели полусонные совы. Левее – еще одна машина, капот открыт. Мимо нее проходит отец. Я помню его (папу?) таким. Ребенок размахивает зеленой шляпой и смеется. Камера не успевает за его бегом. Неужели это я? Дед что-то рассказывает камере, и тут же неподалеку молчит второй дед. Оба настолько молодые, что это кажется обманом. Но еще удивительнее, что они рядом. Таких дней почти не бывало, невероятное совпадение. Семьи еще не рассорились. Опять теряется резкость изображения. Бабушка, улыбаясь, пробегает с каким-то тазом (вторая бабушка есть только на другой записи: в домашнем халате, держит меня на руках – мне там меньше года). Мать. Она. Мама (я все-таки записал это слово?) сидит в шезлонге, отец на траве рядом с ней. Они еще не развелись (осталось подождать год, может быть полтора, наверное не больше), беззвучно разговаривают, в их руках какие-то листы, может быть обсуждают напечатанный на них текст (что это? дипломная работа?), улыбаются. Теперь-то известно, что из всего этого ничего не выйдет, кроме меня. Ну, то есть – почти ничего. А здесь, на записи пока еще никакого ощущения надвигающейся катастрофы, истерики, ненависти, бесконечных оскорблений, запоздалых полупримирений, ничего даже отдаленно похожего. Он взглянул в камеру. У него красивое лицо. Как и у нее (просто я упорно не хочу признавать этого; это не та красота, которая может быть мною принята). Неподалеку – дерево без листьев (что же за загадочный месяц?), рядом дед моет машину. Четыре десятилетия назад. Дед еще жив. Снова не понимаю: неужели у меня тоже впереди четыре десятилетия? Что же там будет? Надо чего-то ждать? Свиток не то разворачивается, не то сворачивается. Лучше думать, что свертывается. Так спокойнее. Маленькая тряпка сбрасывает на землю клочья пены. Стекло блестит на солнце. Теперь уже я на шезлонге (это клетчатое раздвижное кресло сохранилось до сих пор – оно в старом сарае, среди другого хлама). Без паузы – новые съемки. Сначала я в теплой куртке бегаю по парку рядом со спортивной ареной. Потом, уже легче одетый, – во дворе около дома. Обшарпанные качели, на которых я раскачиваюсь. Из настоящего в прошлое. Крупный план лица, очень четкий. Фон размыт. Продолжаю раскачиваться. Пауза. Ржавая горка на детской площадке. Кажется, я боялся с нее скатываться. Снова и снова осторожно спускаюсь по огромной лестнице. Падаю в подвалы сентиментальности, притрагиваюсь к заплесневелым, обшарпанным стенам. Размахиваю руками. Целюсь, глядя в камеру. Какие-то дети из соседних домов. Они не всегда принимали меня в свои игры. Полуразрушенный бетонный забор. Все вперемешку. Удивительная, встречающаяся только у ребенка серьезность в глазах. Потом опять кривляюсь. Недавно мы с тобой ездили в этот двор, у меня сохранилось не так уж много воспоминаний, почти все вычеркнуто, изъято. Но кое-что осталось, кое-что выплескивается наружу. Даже слишком многое. Раз за разом цедить этот пепел. Ты все знаешь. Спасибо, что слушаешь это. Но хватит повторять. Опять за городом. Тот же дом, но теперь уже осень. Платок на моей голове. В детстве меня вечно кутали в платки. Потом я ненавидел эти фотографии. Сейчас нет никаких мыслей на этот счет. Скрываюсь в зарослях травы. Где-то там же теряется моя мать. Эти кадры сохранились хуже других. Что-то мелькает, дрожит. Короткая пауза. Прабабушка склонилась над грядкой. Поворачивается и смотрит в камеру. Ей осталось жить не больше двух лет. Кажется, в конце жизни она мало что понимала, пряталась в шкаф и не могла объяснить зачем. Я почти забыл ее. Где же прадед? Неужели нет ни одной записи с ним? Неужели он стерт? А что ждет меня в старости? Отец красит забор. Тот самый, на который я буду влезать еще сотни, тысячи раз, чтобы смотреть на закат. Тот самый, по которому будут ежедневно пробегать белки. Тот самый, который совсем выцветет через тридцать лет. Тот самый, на который почти через сорок лет из-за сильного ветра упадут две сосны. А здесь – зеленой краской выкрашен только один пролет, дальше – желтые, высветленные отблесками солнца доски. Отламываю кусок сухой сосновой коры, он рассыпается в моих руках. Сейчас, не тогда. На всякий случай: все это вовсе не кажется мне раем до грехопадения или чем-то подобным. А как я это назову? Не знаю. Следующий эпизод. Я за столом на веранде. Здесь прабабушка заставляла доесть второе, прежде чем дать мне клубнику. Может быть, это один из этих дней. Ем очень медленно (точь-в-точь как много позже – наши с тобой дети, сходств вообще очень много). За спиной – дверь, открывающаяся наружу, сейчас ее уже нет, как и прабабушки, называвшей четырехлетнего меня «особым человеком» (без иронии). А вот об эти рейки, они и сейчас те же самые, бился голос разговорчивого деда. Если постучать по левой из них, то раздастся пружинящий, скрипящий звук, а та, что чуть правее, звучит как далекий гудок. Это эхо многолетних слов. Отец ведет меня за руку мимо каких-то деревьев. Пытается вывести из аллеи забвения. Его взгляд в камеру. В нем что-то важное. Но слишком мало времени, чтобы осознать это. Я смотрю под ноги. Изображение останавливается. Другая пленка. Мне не больше двух лет. Бегаю босиком по непонятному пустырю (какая редкость – в кепке, а не платке), рву цветы и траву. Камера дрожит вместе с моими быстрыми движениями. Без паузы, месяца на два позже. Уже в шапке и даже шарфе. На даче, нет, где-то еще. Гуляем всей семьей. Родители снимают по очереди. Очень размытые кадры. Эти пленки почему-то сохранились хуже. Не помню, чтобы их чаще смотрели. Потом наконец фокус восстанавливается. Лицо отца. Спина матери. Какие-то взрослые девочки. Брожу рядом с ними. Опять все размыто. Мама снимает с меня шапку. Мои белые, очень белые волосы. Как потом, через двадцать пять лет у моей дочери. Роемся с отцом в стоге скошенной травы. Я с неостановимой серьезностью раскидываю зелено-желтые хлопья в разные стороны. Черное пятнышко в центре экрана. Еще запись. Уже зима. Какие-то люди на лыжах, они всегда там съезжали. В одинаковых свитерах. С одинаковыми улыбками. Вспышка. Мама в несуразных очках (тогда они считались красивыми). Подходим к кормушке для птиц, напоминающей огромный крест. Папа сажает меня на санки, распутывает веревку. Машу варежкой в камеру. Снова и снова. Кажется, немного помню ту жизнь. Засыпанные снегом площадки. Долгий серьезный взгляд в камеру. Снова дача, снова платок. Аллея за полем, она есть и сейчас. Не устаю удивляться этому. Эти деревья очерчивают границы моего детства. Бегу к лесу, потом обратно. Прыгаем с дедом, взявшись за руки. Новые кадры. Наконец-то прадед, он косит траву за домом. Я помню этот огромный острый нож. И брюки галифе. Помню его. Ведь он умер, когда мне было лет десять, нет, меньше. Нет, больше. Маленькая зеленая лейка в моих руках, хорошо помню и ее. Поливаю осенний засохший цветник. Яблоня, которую давно спилили. Залезаю на длинные ветки. Выкорчеванные пни, тогда их было много. На одном из них дед рубил дрова. Похож на маму, когда улыбаюсь. Едва ли мне это нравится. Нет, не люблю улыбаться. (Только с тобой и с детьми забываю об этом.) Внезапно все в темноте. В глубине непроглядности я размахиваю какими-то палками. Лица не видно, но я знаю, что это я. Старая, словно пережившая войну детская площадка. Смотрю в камеру, то есть, получается, себе же в глаза. Спустя тридцать пять лет. В каком-то замедлении. Теперь лицо различимо, но я его не узнаю. Похож на своего сына. Дерусь с мамой на игрушечных мечах, проигрываю, падаю в траву. Она очень молодая. Сзади – шоссе, дома, машины. Все в каком-то едва желтом мерцании. Последний застывший кадр: я у деда на плече. Другая запись. На балконе. Дед надел на меня свои медали и ордена. Рассматриваю их. Все сверкает на солнце. Я никогда не полюблю парады. Но и не буду считать, что дед неправ в том, что любит их. Застекленная лоджия, она почти не изменилась с тех пор. А вот другой балкон, еще открытый. С немыслимой отчетливостью вспоминаю, как я боялся трещины между полом и ограждением. Сквозь проем с высоты тринадцати этажей был виден далекий асфальт. Дом напротив. Он все тот же. Только гораздо более обшарпанный. Изображение замирает. Мне там, наверное, лет шесть. Как и на следующей пленке, где я сижу на крыше деревянной кареты, целясь куда-то вдаль из игрушечного револьвера. Позже уже ничего не снимали. Сзади – зелено-желтая листва. Потом слезаю, постоянно ношусь взад-вперед, прыгаю, смеюсь. Да, смеюсь. Дед раскачивает меня на руках. Расфокусировка. Теперь новый эпизод. Другая пленка. Еще раньше. Волны разбиваются о бетонную плиту. Перед тем как рассыпаться, каждая из них успевает сверкнуть, бросить последний взгляд в камеру. Какая-то странная конструкция на высоких тонких сваях обрамляет белые взрывы. Я не так давно научился ходить, стою рядом с дедом на побережье. В неизменном, сливающимся с небом и морем синем платке. Без родителей. Дед (кому-то он может показаться моим отцом) сажает меня на плечо. Потом раскачивает на руках из стороны в сторону. Наши длинные тени на серо-рыжем песке. Потом я один роюсь в песке и камнях на фоне длинного, заброшенного причала. В стране, которой сейчас уже нет. Но море осталось. Оно не боится войны, ему нет до нее дела. И даже причал, может быть, тоже выжил. Этого я не узна́ю. Осталась и более поздняя запись, на ней мне года четыре. Сухая, острая трава у побережья. Потом море. Помню, что боялся утонуть, но любил этот испуг. Эта пленка, на которой я с родителями, а не с дедом и бабушкой, сохранилась хуже всех. Сплошные вспышки, замутнения, полосы и пятна. Интересно, я правда помню эти дни или просто когда-то смотрел запись? Нет, я же не забыл слова, которые мы произносили. Но я уже ничему не верю. Волны. Вспышки. Волны. Иду по песку с сандалиями в руках. Изображение трясется. Сверху – какие-то царапины. Нет, это волейбольная сетка. Перевернутая лодка. Какие-то люди вдали. Бегущие черные точки. Мама стряхивает песок с моих ног и надевает на них сандалии. На ней нелепая широкополая шляпа (многие носили такие, кажется, сейчас они опять вошли в моду). Вряд ли у нас тогда была камера, наверное, дед передал свою на полгода. Помню даже свою тогдашнюю одежду. Хотя, может быть, я узнаю́ ее по фотографиям. А вот кто-то (мама?) забыл выключить съемку. Тени под ногами, асфальт, трава, песок. Теперь снова смотрю в камеру. Изображение очень размыто. Может быть, это не я, а мой сын? Очень похожие жесты и гримасы. Ему сейчас столько же, сколько мне тогда, даже чуть больше. Кажется, он чувствует что-то похожее. Что? Дом, в котором мы тогда жили. Я не сразу узнал его, когда вернулся туда спустя пятнадцать лет. Что ж, больше я его никогда не увижу. Может быть, его разбомбили. Папа держит руку на уровне моего пояса, так чтобы я мог ударить по его ладони ногой. Мы так играли, помню. Неизменная сигарета у него во рту. Наверное, я так никогда и не полюбил табачный дым, потому что родители курили не переставая. Бегаю по побережью с какой-то длинной, похожей на метлу палкой. В красной рубашке. Песок попал мне в глаза. Неподалеку – какая-то полуразрушенная хижина. Настоящая дикарская лачуга: в стены вплетена трава, на крыше – широкие листья. Залезаю в старую лодку. Опять швыряю песок в разные стороны. Длинная тень на земле. Снова никого на побережье. Какие-то заброшенные дома вдали. Что-то помню. Пробираюсь сквозь заросли. Безуспешно пытаюсь проредить их. Каменистые горы. Да, мы ездили к ним. Впрочем, тоже были фото, так что и этому кадру нет доверия. Ничему нет доверия. Все воспоминания откуда-то украдены. Почти все. Теперь-то ясно, что это никакие не горы, а просто груды камней. Горы только на дальнем фоне. Родители моложе, чем можно себе представить. Тогдашние их знакомые. Даже имена помню. И глупый толстяк, их непонятливый сын, к которому я до сих пор сохранил какую-то антипатию (не приходит в голову сделать скидку на то, что ему там три года). Папа заставляет меня есть что-то, я отворачиваюсь. Так бывало и потом, но вообще-то он редко вмешивался в мою жизнь. Я благодарен ему за это. Мать смотрит на часы. Пора уезжать. Она усмехается и уходит, изображение темнеет, исчезает и ее лицо, в чертах которого ничего общего с жутким сегодняшним – одутловатым, напоминающим гигантскую грушу (а ведь ему еще предстоит увидеть ее труп). Свалка старых машин. Да, я любил лазить по изогнутым капотам и крышам. Разбросанные покрышки. Вывернутые наизнанку сиденья. Ржавые каркасы. Иду к камере. Камера отступает. Это пячусь я нынешний. Опять в воде. Волн почти нет. Я боюсь смотреть. Я смотрю. Еще кадры. Мне опять год. Бегу вдоль каких-то колонн. Совсем молодая бабушка, в темных очках. Балкон. Смотрю с него на деревья и пустыри. Пытаюсь приподнять голову над перилами. Бабушка сажает меня на колени, кормит фруктовым пюре из маленькой баночки. Бабушки больше нет. Машу рукой в камеру. Теперь я на переднем сиденье машины. Встав на колени, кручу руль и покачиваю ручку передач. За окнами – нескончаемое море. Стела с надписями на иностранном языке, спустя пару десятилетий я попытаюсь его выучить (надо ли говорить, что безуспешно). Дед что-то рассказывает мне про эти буквы. Бабушка боится, что упаду со ступенек, и берет меня за руку. Тихие, зоркие жесты. Каменистый холм на пляже. Мы с дедом забрались на один из серых выступов. В моих руках сухие водоросли. Я бросаю их под ноги. Дед каждый раз находит новые и передает мне. Их изъеденные солью листья и стебли разбросаны повсюду. Это и есть мои воспоминания. Хожу меж камней, словно опасаясь упасть. Дед отпускает мою руку, я тут же бегу в сторону воды, к движущимся белым ступеням. Как будто бы помню еще одну запись: я совсем маленький, явно не умеющий плавать, голый, бегу в самую гущу волн, бабушка едва успевает догнать. Может быть, эта пленка потерялась? А вдруг были и другие? Или я путаю с фото. Теперь меня ведет какая-то девочка, лет восьми. Никто не вспомнит, кто она, хотя не раз видел ее на старых фотографиях. Рядом дымится кривой мангал. Синие полосы, как тонкие молнии, изредка взрезают изображение. Снова море, белые линии высоких волн набегают на камни с неслышным шуршанием. Их изгибы, их всплески, их шерстящаяся зыбь. Ворохи сухих водорослей и бесцветная пена на диком, заброшенном, серо-серебряном побережье. Восьмимиллиметровая пленка делает все размытым, пыльным. Дым и слезы еще больше усугубляют эту нечеткость. Песок в глазах. Темно-зеленые волны, их ледяные кружева, их полымя. Сколько ни пытаюсь, не могу вспомнить ни одного из этих событий. Какая-то пустота заслоняет их. Нет, нет, не помню. И все-таки что-то узнаю́, прежде всего само беспокойное, цепкое забвение. Оно и есть моя легенда. Густая, гулкая тишина. И вдруг, уже на последней минуте – оглушительный плеск. Тяжелые волны обрушиваются с застающим меня врасплох широким шумом. Этот рокот перекрывает и застит все, даже изображение. В старой записи неведомым образом появляется звук. Я слышу его. Или опять путаю. Может быть, это эхо других пленок. Кассет, магнитофонных записей, одна из них ведь тоже сохранилась – две стороны по полчаса каждая. Я переслушивал ее какое-то время назад (ту, что осталась у деда; жалко, что отец потерял свою). Обрывки моей, незнакомой жизни. Здесь все наоборот. Сквозь наши разговоры (и шум пленки, и звуки играющей фоном музыки – там, на записи) проступают забытые вещи: игрушки, детские книжки, дольки апельсина, которые мы брали на прогулки, очертания квартиры, как сильно она успела постареть с тех пор, нет, впрочем, не так уж сильно (сегодня я несмотря на протесты деда пылесосил ее, а когда они уедут за город, мы тайком перестираем все их вещи). Некоторые из присутствующих в кровоточащей памяти предметов и сейчас можно найти здесь. Они полусломаны, покрыты пылью. Мифы, в которые я тогда безудержно верил. Откуда эта банальная уверенность в том, что там, в детстве скрывается что-то очень важное? И оно безнадежно забыто, его не под силу раскопать никакому психоанализу. Нет, квартира та же самая. Ведь они, в отличие от всех остальных моих родственников, никуда не переезжали (как будто как раз поэтому я помню про них чуть больше). Те же шкафы, столы, ковры, они не так уж сильно обшарпаны. Та же репродукция Джоконды на стене, тот же виниловый проигрыватель. А за этим углом широкой стенки я часто прятался в детстве. Голос деда. А вот он уж точно почти не изменился за тридцать пять лет. Те же интонации. Которые скоро, очень скоро навсегда исчезнут. Я могу пересказать все, что он говорит на этих записях. Там два эпизода, и каждый начинается с объявления невозможно далекой даты. Потом дед задает мне вопросы. Я сначала неохотно, а затем уже более увлеченно отвечаю. Через несколько лет приедет мама. Несколько дней – поправляет дед. Нет, лет. (Помню, я был удивительно упрямым. Таким же, как теперь мой сын.) Дед говорит: мама скоро приедет. Она в больнице. Что тогда с ней случилось? Не помню. Почки? Зрение? Мне кажется, ее почти не было в моем детстве. Во всяком случае, в эпизодах, которые удастся вспомнить без отвращения. Но до всего ведь точно было между нами что-то хорошее, просто оно оказалось слишком сильно заслонено последующими десятилетиями. Помню, однажды она приехала на дачу, играла со мной, соседским мальчишкой и его маленькой сестренкой. И сестренка сказала: у тебя такая замечательная мама. Ее-то мать целые дни проводила на огороде и не играла с ней, только ругалась, что ей мало помогают. А моя приехала на пару дней, чтобы снова уехать. Ей было несложно поиграть с нами, это не слишком обременяло раз в месяц. Но это я теперь так пишу. Тогда я был горд тем, что у меня и правда такая замечательная мама. А теперь – какая-то черная дыра вместо нее. Ее ничем не заполнить, хотя я уже пять лет пытаюсь написать об этом хоть что-то. Вместо ожидаемой многотомной эпопеи – лишь несколько жалких страниц. И большинство из них о невозможности вспомнить. Да, вот о чем эта книга, наконец-то стало ясно. Может быть, был шанс что-то изменить, остановить, узнать тот момент, после которого все куда-то обрушилось? Отчего-то – уверенный ответ «нет». Отчего-то чувство странной предопределенности. Запись выключается с громким щелчком. Но через год я найду еще одну кассету. Ту, которую считал потерянной? Нет, другую. Эту я никогда не слышал. Кассета лежала на виду, но все давно про нее забыли. Сначала какой-то грохот кастрюль, плеск воды, шум, потом плач ребенка. Потом два голоса, я – сегодняшний я – не узнаю́ их, отказываюсь узнавать голоса родителей. Да, странно, не понимаю, кто говорит. Только потом, прислушавшись, вспоминаю. Отец такой молодой, такой беззащитно-радостный. И она тоже. Нет, мне не нравится ее голос. И все-таки есть что-то завораживающее, что-то родное в интонациях. Но также и то, что потом начнет вызывать ненависть. Все двоится, не хочет складываться в ясную картину. А я – тот я – визжу, плачу, смеюсь, рычу, кашляю. Как немой, который прилагает какие-то жуткие усилия, чтобы заговорить. Двадцать минут детских криков. Мне меньше года. Мне нужно что-то сказать ей. Что? Она тоже не знает. На другой стороне я уже постарше. Отец заставляет меня учить стихи (точно, вспоминаю, как мы их читали), я не очень хочу повторять рифмы, спрашиваю: где здесь мама? Как будто ее можно найти там, в детской книжке. Отец куда-то выходит, а я стою перед магнитофоном и кричу вертящейся кассете: мама, я тебя люблю. Стою в самом центре пустоты. Но потом произойдет еще кое-что: она умрет. Позвонит дед и скажет: твоя мама умерла сегодня ночью. По какому-то нелепому стечению обстоятельств все это свалится на них. Сначала я в течение нескольких дней не смогу им дозвониться, за день до ее смерти буду безуспешно пытаться, но телефоны почему-то не будут работать, потом никто не сможет объяснить почему. Дед позвонит с чужого номера только на следующий день днем. Она приехала к ним и умерла. Из-за пробок я не успею до того, как ее заберут в морг. Почему-то окажусь сбережен от этого. Только выброшу потом черный мешок со снятыми с нее вещами. А через несколько дней – словно репетиция всех последующих похорон. Сколько их еще будет. Она не переживет бабушку, хотя в каком-то смысле проживет даже слишком долго. Священник положит иконку под ее распухшую руку. (Мой сын никогда ее не увидит, мне еще нужно будет что-то рассказать ему про нее.) Просто побуду рядом с бабушкой и дедом, когда маму будут сжигать, и потом тоже, и до, и после. Кажется, им от этого лучше. А через неделю поставлю в багажник урну с ее пеплом, чтобы отвезти на кладбище к прабабушке. Все лето они будут жечь на даче какие-то сухие ветки и листья, бессознательно продлевая поминальное пламя. Точно так же и мне придет в голову сжечь ее фотографии, ведь ее изображение слишком хорошо отпечаталось в моей памяти. (Я этого не сделаю.) Еще странная (конечно, тут же отброшенная) мысль: поместить ее жуткое, позднее фото на обложку этой книги, если я когда-нибудь решусь ее издать. Теперь бабушка и дед. Наблюдать, как рассыпается их мозг. Не столь уж медленно, даже слишком быстро. Безуспешно, но упорно пытаться затормозить этот распад. Я еще долго буду высыпать под яблони золу от сожженных ими веток, и мне покажется, что это пепел умерших или почти умерших. Всех моих родственников. Их пепел. Их голоса, называющие меня по имени, зовущие меня из прошлого. Та запись, на которой и маме, и, кажется, даже бабушке меньше лет, чем мне, сейчас слушающему их. От этого жутко. Я вспоминаю ее лежащей в гробу, когда слышу голос, читающий мне детскую книжку. И вдруг внезапное озарение: мама умерла на даче, на главной территории моего детства. Да, теперь этот дом – еще и место смерти моей матери. Жутко или закономерно. А теперь я пытаюсь печатать это здесь, на втором этаже. Здесь, где все мое детство печатал что-то дед. Здесь, где бабушка еще не один день будет искать свою дочь, забывая о том, что ее больше нет, что все попытки спасти ее закончились сокрушительным фиаско. Забывая, что совсем недавно она видела дочь молча лежащей в гробу, а потом она навсегда опустилась в металлическую нишу. Забывая и вспоминая. Раз за разом заново переживая ее исчезновение. Кто еще умрет в этом доме? Бабушка еще не раз задумчиво спросит: «А когда нас будут хоронить?» И еще не раз мне будут сниться скрывающиеся в деревьях мать, прадед, прабабушка. Очень скоро исчезнет и бабушка. Дед помашет мне рукой от дачных ворот, на этом же месте они еще недавно стояли вдвоем. А теперь бабушку словно стерли с фотографии. И его вот-вот сотрут. Их призраки уже никогда не покинут этих мест. Но я все равно буду приезжать сюда. Я никуда отсюда не денусь. Удивительно, но едва ли не единственное, что я почувствую, узнав о смерти матери, – это облегчение. Нет, и еще что-то. Еще предстоит много лет разбираться со всем этим. Я смотрю на фотографию двадцатилетней девушки, почти неузнаваемой, если сравнивать с изображениями после сорока лет. Что же с ней случилось? Да, я все еще до конца не понимаю, что́ именно хотел бы о ней сказать. И эти записи вряд ли помогут мне. Все, что останется, – это дальше и дальше вымалчивать их, без всякого чувства меры. Не пытаясь даже разобраться, какие именно записи имеются в виду – киноленты, аудиокассета или этот бесконечно короткий текст. Пусть листы продолжают рассыпаться по полу, вокруг стола, по всей комнате. Точно так разбрасывает свои тетради моя дочь, когда делает уроки. В ее чертах есть что-то от моей матери, и это меня пугает.

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте.
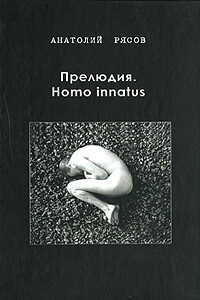
«Прелюдия. Homo innatus» — второй роман Анатолия Рясова.Мрачно-абсурдная эстетика, пересекающаяся с художественным пространством театральных и концертных выступлений «Кафтана смеха». Сквозь внешние мрак и безысходность пробивается образ традиционного алхимического преображения личности…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В мире, где даже прошлое, не говоря уже о настоящем, постоянно ускользает и рассыпается, ретроспективное зрение больше не кажется единственным способом рассказать историю. Роман Анатолия Рясова написан в будущем времени и будто создается на глазах у читателя, делая его соучастником авторского замысла. Герой книги, провинциальный литератор Петя, отправляется на поезде в Москву, а уготованный ему путь проходит сквозь всю русскую литературу от Карамзина и Радищева до Набокова и Ерофеева. Реальность, которая утопает в метафорах и конструируется на ходу, ненадежный рассказчик и особые отношения автора и героя лишают роман всякой предопределенности.
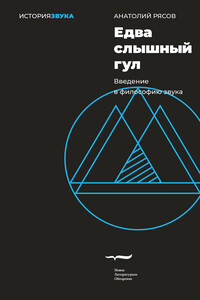
Что нового можно «услышать», если прислушиваться к звуку из пространства философии? Почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства, а чаще и вовсе не покидает территории техники? Эти вопросы стали отправными точками книги Анатолия Рясова, исследователя, сочетающего философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна «Мосфильм». Обращаясь к концепциям Мартина Хайдеггера, Жака Деррида, Жан-Люка Нанси и Младена Долара, автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноменологического дискурсов, но одновременно – как загадочные лакуны в истории мысли.

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения.

Роман «Открытый город» (2011) стал громким дебютом Теджу Коула, американского писателя нигерийского происхождения. Книга во многом парадоксальна: герой, молодой психиатр, не анализирует свои душевные состояния, его откровенные рассказы о прошлом обрывочны, четкого зачина нет, а финалов – целых три, и все – открытые. При этом в книге отражены актуальные для героя и XXI века в целом общественно- политические проблемы: иммиграция, мультикультурализм, исторические психологические травмы. Книга содержит нецензурную брань. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Джозеф Хансен (1923–2004) — крупнейший американский писатель, автор более 40 книг, долгие годы преподававший художественную литературу в Лос-анджелесском университете. В США и Великобритании известность ему принесла серия популярных детективных романов, главный герой которых — частный детектив Дэйв Брандсеттер. Роман «Год Иова», согласно отзывам большинства критиков, является лучшим произведением Хансена. «Год Иова» — 12 месяцев на рубеже 1980-х годов. Быт голливудского актера-гея Оливера Джуита. Ему за 50, у него очаровательный молодой любовник Билл, который, кажется, больше любит образ, созданный Оливером на экране, чем его самого.
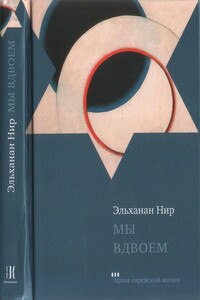
Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.
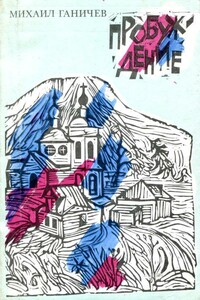
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.