В молчании - [13]
§ 16. Квартира
Эхо шагов. Еще несколько мгновений назад казалось, что дойти сюда невозможно, что лабиринт несуразно узких улочек и проходных дворов будет вечно оборачиваться скользящей усмешкой. Но вот – внезапное, дышащее прозрачностью, истомное бесцветье. Узкая, слишком хрупкая лестница. Как-то она выдерживает тяжесть громадных ступеней. Как-то не теряет изящества. Как-то находит общий язык с временем. Впрочем, ступени могут лишь казаться огромными. Едва различимые в тусклой, талой мгле, они слишком воздушны, чтобы можно было описать их. Как и все остальное. Крохотные окна – лишь в высоте, где-то под самым куполом. Или это свечи? Или искрящиеся зеркала? Или? Не разобрать. Спускаясь, нити незаметного света завиваются в обтянутые бархатной пылью перила. Тонкие, смуглые фрески на осыпающихся стенах. Их лукавая монотонность. Их знакомое, хриплое молчание. Продолжаю подниматься в бездну ослепительной тишины. Дрожащее свеченье, блеск сумерек – непроходимые дюны, целые горы немоты. Их очаровательный, надрывный лязг. Их ледяная твердость. Моя растерянность, моя боязнь вымолвить хоть слово или даже промолчать. Но ведь теперь, когда ступени обрушились, назад не вернуться. Выступы исчезли, как облака, развеянные ветром. Я заперт в ловушке лестничной клетки. Между сквозящими потоками. Может быть, есть и другие двери, но, конечно же, не замечаю их. Все равно они окажутся наглухо запертыми, несуществующими. Продолжаю ждать, застыв в цепкой неподвижности. Все еще бесконечно далеко до встречи. Слышные и неслышные скрипы, другие случайные призвуки. Но отголоски речи, кажется, приближаются. Неужели для свыкшегося с тишиной это возможно? Да, если это последняя, снежная речь.
Потом я постучал. Отзвук, равномерная неровность тишины. Опираясь виском о темноту, ждать было несложно. Все готово было предстоять бесконечно. И вот, через несколько мгновений – мягкий, неслышный стук шагов, и мне отворили. Ее мерцающее лицо, приоткрытые спокойные глаза. Ее почти неприметная улыбка. Тонкие пальцы, полупрячущиеся с той стороны двери. Светло-розовые овалы, их бледно-белые сердцевины, рассеченные тонкими полосами света. Эта прекрасная, хрупкая худоба. Неведомость ее существования. Призрачное, почти знакомое сияние. Не мог пошевелиться, окутанный неистовой недвижностью, что расположилась на месте еще не произнесенных слов.
– Войдете?
– Да, всегда испытывал слабость к сумеркам и молчанию.
– Даже не знаю, чего здесь больше.
– Неторопливости?
– Может быть, если, конечно, не считать ее частью безмолвствующего полумрака.
– Не важно, я спросил, просто чтобы еще раз услышать ваш голос.
Снова воображаемое место. Ширмы на месте стен. Усыпляющее беззвучие, полусвет. Высокие кресла, плотные портьеры, отблески бокалов – все словно из другого, давно минувшего или никогда не наступавшего века. Тени, их тревожная музыка. Помню, как я впервые пришел в эту пустынную квартиру, странно – тогда она показалась мне совсем не похожей на себя. Представлялось, что комнаты, полные причудливой, смутной немоты, должны выглядеть как-то иначе. Но и что-то общее тоже было. Наверное, сам однозвучный узор тишины. Схожесть со степью или небом. Без вычурности. Рука едва заметным (похожим на далекое хоровое пение) движением отвела от глаз тонкую прядь. Изгибаясь, длинные волосы точно копировали контуры плеча. Далее – едва слышная беседа, перемежаемая сверкающими паузами. Пока тянулась каждая из них, они успевали по несколько раз забыть и вспомнить друг друга.
– Сколько сторон у темноты?
– Не меньше, чем граней или вершин.
– А многие из вершин покорены?
– Уже ни одной. С тех пор, как их начали считать…
– Слова ускользают, как мысли.
– Да. И мысли тоже ускользают, как мысли.
Занавешенные оконные рамы. Их монотонная, загадочная бездвижность. Разговор, окруженный хрупкими лучами теней. Приглушенные голоса. Пытающиеся произнести забвение. Самое сложное – правильно расставить затишья между произносимыми фразами.
– На некоторые ширмы я решила повесить окна. За шторами спрятаны междуночные картины и междудневные гравюры.
– Я помню.
– Стоило бы занавесить и дверные проемы, но что-то сдерживает меня.
– Что именно?
– Точно не здравый смысл. Может быть, тяга к неприметным сквознякам.
– Или беспредметный смех?..
– Прикоснитесь ко мне.
– Разве я уже не прикасаюсь?
– Еще нет.
Здесь повсюду темнота. Нет, тусклый лиловый полусвет. Нагая бледность. Кутались в дымящиеся сумерки, вслушиваясь в дышащее безмолвие, в его мерный, внезапный шум. Тут же рядом – на ширму облокотилось вытянувшееся вдоль пола зеркало с закругленными углами. Не без любопытства поглядывали на переливы отблесков, на рассыпавшиеся волосы, на изгибы рук, на исчезающие в темноте очертания, на робкую красоту судорог. Боялись спугнуть их. По-прежнему почти ничего не знающие друг о друге. Мне понадобилось несколько лет, чтобы запомнить цвет ее глаз. Казалось, хлынул сверкающий ливень. И он уже не прекратится.
– Вы когда-нибудь чувствуете удушье?
– Только когда дышу.
– А я задыхаюсь оттого, что никак не могу надышаться тишиной.
– Так и будет, пока смысл здравствует.

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте.

В мире, где даже прошлое, не говоря уже о настоящем, постоянно ускользает и рассыпается, ретроспективное зрение больше не кажется единственным способом рассказать историю. Роман Анатолия Рясова написан в будущем времени и будто создается на глазах у читателя, делая его соучастником авторского замысла. Герой книги, провинциальный литератор Петя, отправляется на поезде в Москву, а уготованный ему путь проходит сквозь всю русскую литературу от Карамзина и Радищева до Набокова и Ерофеева. Реальность, которая утопает в метафорах и конструируется на ходу, ненадежный рассказчик и особые отношения автора и героя лишают роман всякой предопределенности.
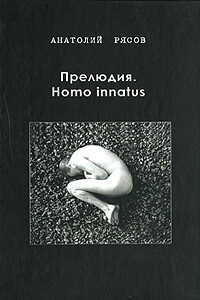
«Прелюдия. Homo innatus» — второй роман Анатолия Рясова.Мрачно-абсурдная эстетика, пересекающаяся с художественным пространством театральных и концертных выступлений «Кафтана смеха». Сквозь внешние мрак и безысходность пробивается образ традиционного алхимического преображения личности…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
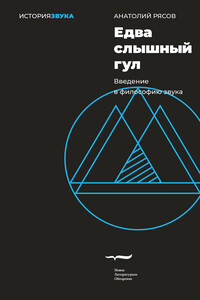
Что нового можно «услышать», если прислушиваться к звуку из пространства философии? Почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства, а чаще и вовсе не покидает территории техники? Эти вопросы стали отправными точками книги Анатолия Рясова, исследователя, сочетающего философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна «Мосфильм». Обращаясь к концепциям Мартина Хайдеггера, Жака Деррида, Жан-Люка Нанси и Младена Долара, автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноменологического дискурсов, но одновременно – как загадочные лакуны в истории мысли.

Все, что казалось простым, внезапно становится сложным. Любовь обращается в ненависть, а истина – в ложь. И то, что должно было выплыть на поверхность, теперь похоронено глубоко внутри.Это история о первой любви и разбитом сердце, о пережитом насилии и о разрушенном мире, а еще о том, как выжить, черпая силы только в самой себе.Бестселлер The New York Times.
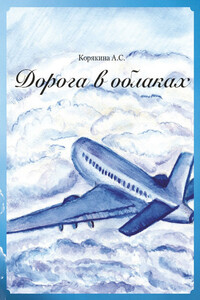
Из чего состоит жизнь молодой девушки, решившей стать стюардессой? Из взлетов и посадок, встреч и расставаний, из калейдоскопа городов и стран, мелькающих за окном иллюминатора.
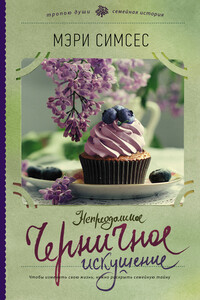
Эллен хочет исполнить последнюю просьбу своей недавно умершей бабушки – передать так и не отправленное письмо ее возлюбленному из далекой юности. Девушка отправляется в городок Бейкон, штат Мэн – искать таинственного адресата. Постепенно она начинает понимать, как много секретов долгие годы хранила ее любимая бабушка. Какие встречи ожидают Эллен в маленьком тихом городке? И можно ли сквозь призму давно ушедшего прошлого взглянуть по-новому на себя и на свою жизнь?

Самая потаённая, тёмная, закрытая стыдливо от глаз посторонних сторона жизни главенствующая в жизни. Об инстинкте, уступающем по силе разве что инстинкту жизни. С которым жизнь сплошное, увы, далеко не всегда сладкое, но всегда гарантированное мученье. О блуде, страстях, ревности, пороках (пороках? Ха-Ха!) – покажите хоть одну персону не подверженную этим добродетелям. Какого черта!

Представленные рассказы – попытка осмыслить нравственное состояние, разобраться в проблемах современных верующих людей и не только. Быть избранным – вот тот идеал, к которому люди призваны Богом. А удается ли кому-либо соответствовать этому идеалу?За внешне простыми житейскими историями стоит желание разобраться в хитросплетениях человеческой души, найти ответы на волнующие православного человека вопросы. Порой это приводит к неожиданным результатам. Современных праведников можно увидеть в строгих деловых костюмах, а внешне благочестивые люди на поверку не всегда оказываются таковыми.

В жизни издателя Йонатана Н. Грифа не было места случайностям, все шло по четко составленному плану. Поэтому даже первое января не могло послужить препятствием для утренней пробежки. На выходе из парка он обнаруживает на своем велосипеде оставленный кем-то ежедневник, заполненный на целый год вперед. Чтобы найти хозяина, нужно лишь прийти на одну из назначенных встреч! Да и почерк в ежедневнике Йонатану смутно знаком… Что, если сама судьба, росчерк за росчерком, переписала его жизнь?