Кремневый скол - [42]
Руслан ахнул ему рукой и вскричал:
— Ахахайра!
И в ответ донеслось:
— Хайт! Хайт!
И все же знаю, читатели, что в купе с happy-end’ом подай вам темпераментную, душещипательную сцену по законам жанра.
Вот вам и такая сцена.
Была уже ночь, когда РАФ примчался в Хуап. У Мирода еще не спали. Ермолай сидел рядом с водителем Демуром, хмельной, но нервный.
— Где, где неандертальцы? — с криком выскочил он из машины.
Но, встав на землю, зашатался.
Мирод медленно направился к нему по широкому двору.
— Где неандертальцы? Не томи, Мирод! — кричал Ермолай.
Но Мирод не прибавил шагу и не произнес ни слова, пока не подошел к машине у ворот.
— Где же они? — переспросил ученый, пожимая руку хозяина.
Мирод спокойно приветствовал Ермолая и Демура.
— Ермолай, нет уже тех, кто тебе нужен. Заходи-ка лучше в дом. Угощу тебя вином, а ты мне расскажешь о Выборах, — сказал он.
Ну чем не душещипательная сцена: человек целый день старался, все достал: и машину, и фотоаппарат, и диктофон; выехал раньше Игорька — и все же не успел? А были же кремняки, тут они были, в селе Хуап, всего несколько часов тому назад!
ЭПИЛОГ
Кремневый скол
И вот началась война. Я теперь вспоминаю, что перед началом войны все смирились с мыслью о ее неизбежности, но мало кто знал, какое у нее лицо. Война направлена против всех и против каждого в отдельности. Какой-то американец сказал, что война — великая проявительница. С одной стороны, она вскрывает все грехи, которые удается прятать в мирное время, в особенности артистичным южанам. С другой стороны, она дает выход героическому. Герои становятся реальной силой войны, и власти не знают, что с ними делать, в особенности ближе к концу войны, и уж совсем не нужны становятся они после войны.
Мушни выделился как герой с первых дней войны. Он был командующим Сухумским направлением, построил Гумистинскую линию обороны. В октябре 1992 года был командирован на Восточный фронт, где погиб при освобождении села Лашкендар. В холодной зимней квартире он сутки пролежал с раздробленным затылком на диване, пока не прилетел вертолет, а Нина вместо Библии читала над ним «Измаил-Бея» Лермонтова.
И вот уже по окончании войны, перед моим приездом в Россию, я сидел ночью в пустой сухумской квартире, пил кислое красное вино и с грустью вспоминал погибших. По телевизору передавали о кошмарах войны, которые понятны только тем, кто войну видел: эти кошмары происходили уже в Чечне. И придумалось стихотворение. Приведу его тут, название «Кремневый скол» отдав повествованию, хотя и знаю, что в этом тексте оно не особенно к месту.
Откуда у молодого археолога, скромного парня обнаружился самый настоящий полководческий дар? Никто не может этого сказать. Пусть это и станет оправданием моим за то, что я потерял героя своего повествования в начале и больше о нем не упоминал. То время, что он провел в обществе кремняков, для меня слишком серьезно. Особенно теперь, когда столько всего произошло.
И мне становится холодно каждый раз, как подумаю, что за два дня с половиной года до дня его гибели я заставил Мушни поставить ногу на мост.
«И так страстно потянуло его туда, к Зеленой Долине, что, сделай он шаг, уже не смог бы остановиться и ступил бы на шаткий мост без перил. Но он не сделал этого единственного шага…»
Иногда мне кажется, что Зеленая Долина нашептала мне тогда эти строки. Не является ли гордыней такая мысль? Или же, напротив, сомнение в возможности знаков небес означает сомнение в Божественной Предопределенности?
Я не смываю этих печальных строк.
Даю без поправки окончание моей повести, написанной семь лет назад.
Прощай, Сашель! Увидимся на юге Франции!
Зеленая Долина
И это было то, что он и предполагал.
За широким пенистым потоком раскинулась Зеленая Долина, знакомая по живописи кремняка, с громоздкой стеной утеса, с двумя глазницами пещер под стеной, с раскидистым деревом посреди травянистой лужайки. У самого берега, за узким мостом без перил, росли кусты иглицы, рускуса и шиповника, как бы обозначая границу, а дальше Зеленая Долина была покрыта травой. Теплый ветер ранней южной осени плыл по долине вослед потоку, отставая от него. Сверкнув на мгновенье от соприкосновения с солнечными лучами, вдруг появлялась и исчезала тысяча серебряных цепочек, чтобы снова сверкнуть, там же и не там же, еще тысячу раз.

Прелестна была единственная сестра владетеля Абхазии Ахмуд-бея, и брак с ней крепко привязал к Абхазии Маршана Химкорасу, князя Дальского. Но прелестная Енджи-ханум с первого дня была чрезвычайно расстроена отношениями с супругом и чувствовала, что ни у кого из окружавших не лежала к ней душа.
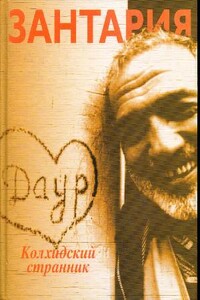
Даур Зантария в своём главном произведении, историческом романе с элементами магического реализма «Золотое колесо», изображает краткий период новейшей истории Абхазии, предшествующий началу грузино-абхазской войны 1992–1993 годов. Несколько переплетающихся сюжетных линий с участием персонажей различных национальностей — как живущих здесь абхазов, грузин (мингрелов), греков, русских, цыган, так и гостей из Балтии и Западной Европы, — дают в совокупности объективную картину надвигающегося конфликта. По утверждению автора, в романе «абхазы показаны глазами грузин, грузины — глазами абхазов, и те и другие — глазами собаки и даже павлина». Сканировано Абхазской интернет-библиотекой httр://арsnytekа.org/.
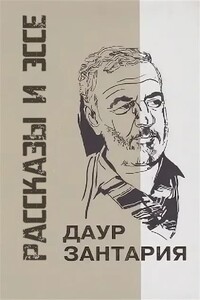
В сборник рассказов и эссе известного абхазского писателя Даура Зантарии (1953–2001) вошли произведения, опубликованные как в сети, так и в книге «Колхидский странник» (2002). Составление — Абхазская интернет-библиотека: http://apsnyteka.org/.

«Чу-Якуб отличился в бою. Слепцы сложили о нем песню. Старейшины поговаривали о возведении его рода в дворянство. …Но весь народ знал, что его славе завидовали и против него затаили вражду».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
