Империя в поисках общего блага. Собственность в дореволюционной России - [151]
Мы видели, как эксперты прилагали усилия к превращению частной собственности в общественную – в первую очередь в сферах археологии, лесоводства и энергетики. В том, что касается развития литературной собственности, их роль была менее важной, но все же существенной: именно они отбирали тексты, редактировали их и предлагали аудитории. Тем не менее в конечном счете не все научные и творческие проблемы принимались во внимание. Охрана исторических памятников стала связываться с философией антииндивидуализма и в художественном плане двигалась к неоклассицизму за счет других модернистских течений в изобразительном искусстве и архитектуре. Аналогичным образом литературные критики, выступавшие за обобществление русской классической литературы, представляли собой лишь одно из множества направлений и школ. В эстетическом плане идея общественной собственности на литературу в начале XX века распространялась почти исключительно на «классическую литературу», оставляя все прочее за бортом[1206]. В результате вопрос литературной собственности оказался переплетенным с вопросами эстетики и идеологии[1207]. Подобно тому как неоклассические ландшафты, созданные архитекторами начала XX века, предшествовали сталинским архитектурным шаблонам, так и фантазии о книгах Пушкина в каждой крестьянской избе предвещали идеи советской культурной политики.
Разумеется, либеральная идея литературного общественного достояния, выдвигавшаяся русской интеллигенцией до революции, существенно отличалась от большевистской литературной политики. Русские либералы ожидали ухода государства из сферы литературы (посредством упразднения цензуры), а также ограничения прав частной собственности, которое, как выразился Милюков, восстановило бы культурную коммуникацию между писателями и массами. На воображаемой территории литературного общественного достояния роль государства сводилась к регистрации прав собственности и их судебной защите. В этом смысле такие представления находились в полном соответствии с концепцией общественной собственности, подразумевавшей не смену субъекта собственности (частные лица – государство), а, в сущности, перестройку самого института собственности – от абсолютной собственности к собственности, ограниченной обязательствами перед обществом[1208]. Понятно, что проект ограничения литературной собственности и расширения литературного общественного достояния заключал в себе неоднозначный смысл, так же как и сама идея общественной собственности: он был нацелен на устранение общественной несправедливости частной собственности, при этом неизбежно ограничивая личные права. Для его воплощения требовалось множество правил и норм; в противном случае он становился угрозой для личных свобод. Протесты писателей против вторжения в их частную жизнь и нарушения их моральных прав были следствием отсутствия норм, которые как защищали бы «собственников», так и регулировали бы общественное достояние. Подобно прочим res publica в имперском государстве, литературное общественное достояние оставалось ничейной территорией (res nullius), поскольку не имелось институтов, которые представляли бы общественность как юридическое лицо. Это еще раз подчеркивало несовместимость самой модели публичной собственности с самодержавной системой.
Эпилог
Причины эпохальных политических преобразований 1914–1921 годов[1209] отличались глубиной и многогранностью; падение старого режима и становление нового строя отнюдь не являлись следствием каких-то проблем с правами собственности. Наоборот, можно сказать, что кризис войны и революции высветил изъяны в системе прав собственности в преувеличенном виде, словно при взгляде сквозь лупу. Военные испытания обнажили те слабые места и усугубили те проблемы, которые десятки лет назад вскрылись в ходе дискуссий о реформе собственности, и большевистская политика национализации 1918–1921 годов в какой-то степени служила извращенным решением этих давних вопросов.
Первая мировая война способствовала реализации начинаний, которые годами тормозились правительством, и национализация публичных вещей заняла ключевое место в военной повестке дня. Однако ни императорское правительство, по-прежнему не желавшее отбирать частную собственность у своих подданных русской национальности, ни Временное правительство не были в состоянии быстро и успешно решить эту задачу. Национализация «общественных» ресурсов (топливо, леса, памятники истории) так и не состоялась, в то время как собственность многих частных владельцев (объявленных враждебными иностранцами) пала жертвой безудержных грабежей, которые правительство не смогло предотвратить. Таким образом, война сыграла роль пробного камня, выявив неспособность государства эффективно распоряжаться национальными ресурсами и его нежелание поступиться своим достоянием, что стало ясно уже в ходе тянувшихся десятилетиями дискуссий на тему собственности, а сейчас проявилось со всей очевидностью. Решить проблему государственной неэффективности не смогла и Февральская революция 1917 года, хотя на нее и возлагались такие надежды, особенно в кругах экспертов. И только большевистское правительство, провозгласившее сплошную национализацию ресурсов и «общих вещей», включая объекты национального наследия, поставило свое выживание в зависимость от построения гигантского бюрократического аппарата для управления государственным добром. В процессе строительства Советского государства правительство (или, точнее, выступавшие от его имени советские юристы), как и предшествовавшее ему императорское правительство, вернулось к прежним попыткам определить свой имущественный статус. В этом контексте в юридические дебаты вернулось понятие «общественной собственности». Кроме того, большевистское правительство столкнулось с проблемой проведения грани между тем, что могло оставаться «частным» (или личным), и тем, что должно принадлежать народу – то есть государству. Контуры советского «общественного достояния» в чем-то напоминали замыслы дореволюционных экспертов; впрочем, между прогрессивными мечтами и большевистским проектом имелись и принципиальные различия.

Книга Волина «Неизвестная революция» — самая значительная анархистская история Российской революции из всех, публиковавшихся когда-либо на разных языках. Ее автор, как мы видели, являлся непосредственным свидетелем и активным участником описываемых событий. Подобно кропоткинской истории Французской революции, она повествует о том, что Волин именует «неизвестной революцией», то есть о народной социальной революции, отличной от захвата политической власти большевиками. До появления книги Волина эта тема почти не обсуждалась.
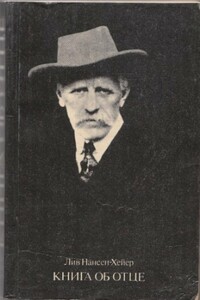
Эта книга — история жизни знаменитого полярного исследователя и выдающегося общественного деятеля фритьофа Нансена. В первой части книги читатель найдет рассказ о детских и юношеских годах Нансена, о путешествиях и экспедициях, принесших ему всемирную известность как ученому, об истории любви Евы и Фритьофа, которую они пронесли через всю свою жизнь. Вторая часть посвящена гуманистической деятельности Нансена в период первой мировой войны и последующего десятилетия. Советскому читателю особенно интересно будет узнать о самоотверженной помощи Нансена голодающему Поволжью.В основу книги положены богатейший архивный материал, письма, дневники Нансена.

«Скифийская история», Андрея Ивановича Лызлова несправедливо забытого русского историка. Родился он предположительно около 1655 г., в семье служилых дворян. Его отец, думный дворянин и патриарший боярин, позаботился, чтобы сын получил хорошее образование - Лызлов знал польский и латинский языки, был начитан в русской истории, сведущ в архитектуре, общался со знаменитым фаворитом царевны Софьи В.В. Голицыным, одним из образованнейших людей России того периода. Участвовал в войнах с турками и крымцами, был в Пензенском крае товарищем (заместителем) воеводы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Коллективизация и голод начала 1930-х годов – один из самых болезненных сюжетов в национальных нарративах постсоветских республик. В Казахстане ценой эксперимента по превращению степных кочевников в промышленную и оседло-сельскохозяйственную нацию стала гибель четверти населения страны (1,5 млн человек), более миллиона беженцев и полностью разрушенная экономика. Почему количество жертв голода оказалось столь чудовищным? Как эта трагедия повлияла на строительство нового, советского Казахстана и удалось ли Советской власти интегрировать казахов в СССР по задуманному сценарию? Как тема казахского голода сказывается на современных политических отношениях Казахстана с Россией и на сложной дискуссии о признании геноцидом голода, вызванного коллективизацией? Опираясь на широкий круг архивных и мемуарных источников на русском и казахском языках, С.

В.Ф. Райан — крупнейший британский филолог-славист, член Британской Академии, Президент Британского общества фольклористов, прекрасный знаток русского языка и средневековых рукописей. Его книга представляет собой фундаментальное исследование глубинных корней русской культуры, является не имеющим аналога обширным компендиумом русских народных верований и суеверий, магии, колдовства и гаданий. Знакомит она читателей и с широким кругом европейских аналогий — балканских, греческих, скандинавских, англосаксонских и т.д.
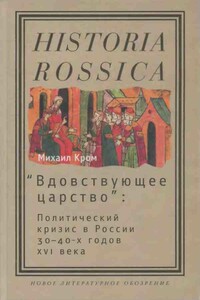
Что происходит со страной, когда во главе государства оказывается трехлетний ребенок? Таков исходный вопрос, с которого начинается данное исследование. Книга задумана как своего рода эксперимент: изучая перипетии политического кризиса, который пережила Россия в годы малолетства Ивана Грозного, автор стремился понять, как была устроена русская монархия XVI в., какая роль была отведена в ней самому государю, а какая — его советникам: боярам, дворецким, казначеям, дьякам. На переднем плане повествования — вспышки придворной борьбы, столкновения честолюбивых аристократов, дворцовые перевороты, опалы, казни и мятежи; но за этим событийным рядом проступают контуры долговременных структур, вырисовывается архаичная природа российской верховной власти (особенно в сравнении с европейскими королевствами начала Нового времени) и вместе с тем — растущая роль нарождающейся бюрократии в делах повседневного управления.
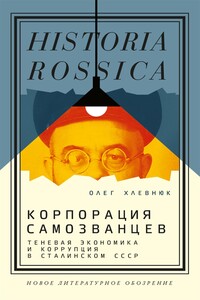
В начале 1948 года Николай Павленко, бывший председатель кооперативной строительной артели, присвоив себе звание полковника инженерных войск, а своим подчиненным другие воинские звания, с помощью подложных документов создал теневую организацию. Эта фиктивная корпорация, которая в разное время называлась Управлением военного строительства № 1 и № 10, заключила с государственными структурами многочисленные договоры и за несколько лет построила десятки участков шоссейных и железных дорог в СССР. Как была устроена организация Павленко? Как ей удалось просуществовать столь долгий срок — с 1948 по 1952 год? В своей книге Олег Хлевнюк на основании новых архивных материалов исследует историю Павленко как пример социальной мимикрии, приспособления к жизни в условиях тоталитаризма, и одновременно как часть советской теневой экономики, демонстрирующую скрытые реалии социального развития страны в позднесталинское время. Олег Хлевнюк — доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института советской и постсоветской истории НИУ ВШЭ.