Империя в поисках общего блага. Собственность в дореволюционной России - [150]
Выбор примеров, доказывавших выгодность свободы (за исключением ссылки на Лермонтова), свидетельствовал о достаточно своеобразном понимании «вестернизации» представителями литературного общества. Русские либеральные и социалистические движения в значительной степени вдохновлялись Западом, в то время как русская аудитория с жадностью поглощала почти все значимые западные труды в сфере общественных наук. Большинство политиков могло поддержать либералов по вопросу конвенции, поскольку дискурс общественного просвещения, особенно при его противопоставлении прибыли, получаемой иностранцами, импонировал националистам самых разных политических оттенков. Соответственно, политические симпатии не играли определяющей роли при решении вопроса о конвенции. Большинство депутатов III Думы согласилось с аргументом Милюкова о том, что ограничение свободы перевода иностранных книг не соответствовало точке зрения «национальной пользы и общественного интереса»[1198], и Дума удалила из проекта закона об авторском праве положение о международном соглашении[1199]. Решение «узаконить литературный грабеж», как выразился по поводу думского голосования журналист и представитель Министерства торговли и промышленности Николай Нотович, «роняет в глазах цивилизованных народов престиж нашего молодого собрания народных представителей»[1200].
Милюков считал стремление России к культурному развитию важнейшей задачей, перед которой должны были отступить такие ценности, как защита частной собственности или международный престиж России. Кроме того, он понимал, что лишь такая стратегия способна обеспечить публичную поддержку со стороны российского электората. После 1905 года в России началась эпоха массовой политики, вследствие чего важную роль в формировании общественного мнения, особенно в том, что касалось таких деликатных проблем, как общественное образование и национализм, стала играть печать. Свобода перевода входила в число тех горячих газетных тем, которые всегда привлекали внимание читателей. Русская печать сохраняла заметный скептицизм в отношении «налога на просвещение», и даже мнение ведущих юристов не могло изменить ее точку зрения. Политикам и русским либералам приходилось принимать во внимание антипатию общества к конвенции, тем более что идея широкой доступности литературной продукции – как отечественной, так и зарубежной – отвечала их довольно популистской повестке дня, которая в числе прочего включала экспроприацию частных земель и национализацию естественных ресурсов.
Поразительно, что русская интеллигенция в ходе дискуссий о литературной собственности обратилась к такой прозаической и порой даже примитивной риторике. Бесконечные ссылки на Пушкина, Лермонтова и Некрасова, призванные подтвердить, что литература – общественное благо, в большинстве случаев были произвольно вырваны из контекста и подвергались спекулятивному истолкованию. При этом примеры и фрагменты, доказывающие потенциальное влияние литературных текстов на общественное сознание или долг отдельных авторов перед «культурным капиталом» нации и их зависимость от своего «окружения», были довольно избитыми, так же как и наивная уверенность в преобразующем влиянии переводных книг. Такая зацикленность на взаимодействии между писателем и обществом была тем более странной с учетом предлагавшихся новейшей русской «литературной наукой» новых работ и теорий с разъяснением психологических и эпистемологических основ художественного творчества[1201]. Аналогичным образом изображение развития русской литературы в виде линейного процесса, как накопление капитала, начавшееся с первоначального импульса, исходившего снизу, а затем постепенно двигавшееся к Пушкину и Толстому, бледнело на фоне различных исторических учений, трактовавших развитие литературной культуры в России и мире как сложный и взаимно обогащающий эволюционный процесс[1202]. По иронии судьбы аргументы, к которым прибегали русские противники литературной собственности в начале XX века, нередко дословно повторяли риторику аналогичных дебатов в постреволюционной Франции[1203]: российские защитники общественных интересов исходили из доступности Толстого или Гончарова, точно так же как их предшественники выступали за свободный доступ к Вольтеру. Эта приверженность риторике Просвещения указывает на сходство проблем, лежавших перед русскими либералами и французскими революционерами конца XVIII века: речь шла о формировании нации, объединенной общей литературной культурой. По сути, в России продолжали двигаться по пути Белинского, поставившего перед собой цель превратить литературу в общее дело – русское res publica.
Такой инструментальный подход к литературе позволяет понять отношение русских либералов к литературе: адептам общественной собственности нужно было продемонстрировать ее работоспособность с тем, чтобы доказать, что она является общественным благом наряду с памятниками, лесами и реками. Леса обеспечивают сохранность рек, реки позволяют производить электричество, памятники хранят в себе историю, литература превращает народ в граждан: все это, вместе взятое и находящееся в коллективной собственности, способствует созданию нации, обладающей самосознанием. Соответственно, в рамках этого дискурса писатель становится «общественным деятелем», а не творцом и индивидуумом; отсюда вытекала героизация литературы

Книга Волина «Неизвестная революция» — самая значительная анархистская история Российской революции из всех, публиковавшихся когда-либо на разных языках. Ее автор, как мы видели, являлся непосредственным свидетелем и активным участником описываемых событий. Подобно кропоткинской истории Французской революции, она повествует о том, что Волин именует «неизвестной революцией», то есть о народной социальной революции, отличной от захвата политической власти большевиками. До появления книги Волина эта тема почти не обсуждалась.
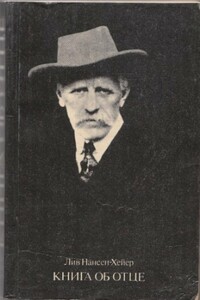
Эта книга — история жизни знаменитого полярного исследователя и выдающегося общественного деятеля фритьофа Нансена. В первой части книги читатель найдет рассказ о детских и юношеских годах Нансена, о путешествиях и экспедициях, принесших ему всемирную известность как ученому, об истории любви Евы и Фритьофа, которую они пронесли через всю свою жизнь. Вторая часть посвящена гуманистической деятельности Нансена в период первой мировой войны и последующего десятилетия. Советскому читателю особенно интересно будет узнать о самоотверженной помощи Нансена голодающему Поволжью.В основу книги положены богатейший архивный материал, письма, дневники Нансена.

«Скифийская история», Андрея Ивановича Лызлова несправедливо забытого русского историка. Родился он предположительно около 1655 г., в семье служилых дворян. Его отец, думный дворянин и патриарший боярин, позаботился, чтобы сын получил хорошее образование - Лызлов знал польский и латинский языки, был начитан в русской истории, сведущ в архитектуре, общался со знаменитым фаворитом царевны Софьи В.В. Голицыным, одним из образованнейших людей России того периода. Участвовал в войнах с турками и крымцами, был в Пензенском крае товарищем (заместителем) воеводы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Коллективизация и голод начала 1930-х годов – один из самых болезненных сюжетов в национальных нарративах постсоветских республик. В Казахстане ценой эксперимента по превращению степных кочевников в промышленную и оседло-сельскохозяйственную нацию стала гибель четверти населения страны (1,5 млн человек), более миллиона беженцев и полностью разрушенная экономика. Почему количество жертв голода оказалось столь чудовищным? Как эта трагедия повлияла на строительство нового, советского Казахстана и удалось ли Советской власти интегрировать казахов в СССР по задуманному сценарию? Как тема казахского голода сказывается на современных политических отношениях Казахстана с Россией и на сложной дискуссии о признании геноцидом голода, вызванного коллективизацией? Опираясь на широкий круг архивных и мемуарных источников на русском и казахском языках, С.

В.Ф. Райан — крупнейший британский филолог-славист, член Британской Академии, Президент Британского общества фольклористов, прекрасный знаток русского языка и средневековых рукописей. Его книга представляет собой фундаментальное исследование глубинных корней русской культуры, является не имеющим аналога обширным компендиумом русских народных верований и суеверий, магии, колдовства и гаданий. Знакомит она читателей и с широким кругом европейских аналогий — балканских, греческих, скандинавских, англосаксонских и т.д.
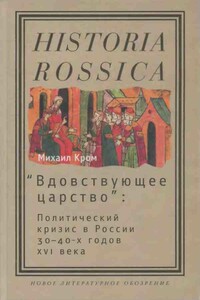
Что происходит со страной, когда во главе государства оказывается трехлетний ребенок? Таков исходный вопрос, с которого начинается данное исследование. Книга задумана как своего рода эксперимент: изучая перипетии политического кризиса, который пережила Россия в годы малолетства Ивана Грозного, автор стремился понять, как была устроена русская монархия XVI в., какая роль была отведена в ней самому государю, а какая — его советникам: боярам, дворецким, казначеям, дьякам. На переднем плане повествования — вспышки придворной борьбы, столкновения честолюбивых аристократов, дворцовые перевороты, опалы, казни и мятежи; но за этим событийным рядом проступают контуры долговременных структур, вырисовывается архаичная природа российской верховной власти (особенно в сравнении с европейскими королевствами начала Нового времени) и вместе с тем — растущая роль нарождающейся бюрократии в делах повседневного управления.
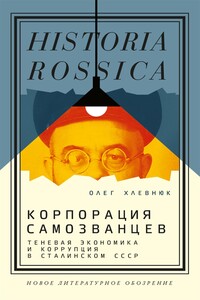
В начале 1948 года Николай Павленко, бывший председатель кооперативной строительной артели, присвоив себе звание полковника инженерных войск, а своим подчиненным другие воинские звания, с помощью подложных документов создал теневую организацию. Эта фиктивная корпорация, которая в разное время называлась Управлением военного строительства № 1 и № 10, заключила с государственными структурами многочисленные договоры и за несколько лет построила десятки участков шоссейных и железных дорог в СССР. Как была устроена организация Павленко? Как ей удалось просуществовать столь долгий срок — с 1948 по 1952 год? В своей книге Олег Хлевнюк на основании новых архивных материалов исследует историю Павленко как пример социальной мимикрии, приспособления к жизни в условиях тоталитаризма, и одновременно как часть советской теневой экономики, демонстрирующую скрытые реалии социального развития страны в позднесталинское время. Олег Хлевнюк — доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института советской и постсоветской истории НИУ ВШЭ.