Господин К. на воле - [16]
— И дал в зубы, а?
— В зубы, да.
— О Господи! — вздохнул Фабиус.
Они долго смотрели друг на друга. На морщинистом лице охранника не читалось ничего, кроме стремительно наступающей старости, полной мелких забот. Козеф Й. был готов на радостях обнять Фабиуса за то, что он держал в памяти столько деталей.
— Вы меня ненавидите? — спросил Козеф Й.
— Нет, — отвечал Фабиус. — Я вас побаивался. Только и всего.
— Что? — вскричал Козеф Й. — Вы меня побаивались? Меня лично?
Фабиус признался, без следа какого бы то ни было смущения, что он, Козеф Й., всегда внушал ему страх. Впрочем, все заключенные внушали ему ужасный страх, всегда. Потому он и приноровился их бить. Из страха. Или чтобы его прогнать, страх. Франц Хосс, его начальник, тот был не такой чувствительный, без этих тонкостей. Он потому и не увлекался битьем, что не боялся. А его, Фабиуса, терроризировали лица заключенных, их движения, вообще их масса.
— Вы меня понимаете? — задыхаясь от желания объясниться, почти умоляюще сказал Фабиус. — Я был затерроризирован, годами я жил в страхе, изо дня в день я жил в страхе. Шутка сказать, я состарился в обстановке террора.
Козеф Й. не верил своим ушам. Впрочем, он так и сказал:
— Я вам не верю, господин Фабиус. Честью клянусь, не верю.
Охранник поднялся со стула и зашаркал туда и сюда перед лифтом.
— Мне было страшно, да, — пробормотал он.
Чем, в сущности, была его жизнь? Да и можно разве назвать это жизнью? Бок о бок с заключенными, почти что наравне с ними? Находиться рядом с ними, есть вместе с ними, караулить их и еще раз караулить, это кому хочешь станет невмоготу. А тут еще страх, не отпускающий ни на секунду страх, ужасный, непреоборимый страх… Бывали ночи, когда страх терзал его просто зверски, почти не удавалось уснуть, он икал, дрожал, дергался, его мучили кошмары, то ли во сне, то ли наяву. Ему чудилось, что все эти люди из камер — они не люди, а змеи, и все ползут на него. Да, он чувствовал, как они, а значит, и он, Козеф Й., стали текучими-ползучими и ухитрились пролезть под двери и через малюсенькие щели в стенах. И все ползут на него, на Фабиуса, чтобы напасть, чтобы сожрать, чтобы его больше не было. Годами он жил в этом страхе, годами переживал эти муки. И от них было не избавиться, от них нельзя было воспрять иначе как через битье. Да и битьем-mo он не многого добивался, потому что эти всплески, эта мгновенная разрядка аккумулировала в нем еще больший сгусток ужаса. Чем больше он бил, тем больше ложилось у него на совесть, пусть физически ему удавалось все-таки расслабиться и избавиться от этой жуткой дрожи. Потому что у него, у Фабиуса, была совесть. Да.
— Вы мне верите, господин Козеф, верите? — заклинал он со слезами на глазах, пуская слюни.
— Верю-верю, господин охранник, — отвечал Козеф Й.
Он испытывал облегчение каждый раз, когда бил. Тогда он получал передышку на полдня, а то и на целую ночь — снова владел собой, снова чувствовал себя человеком и даже в некотором роде добрым человеком, да… Вот ведь он, Козеф Й., не может быть, чтобы он не помнил такую, например, важную вещь: когда они шли на черную работу, в большинстве случаев их охранял не кто иной, как он, Фабиус. Так вот, он, Фабиус, никогда не тянул из заключенных жилы на черной работе. В этом отношении он, Фабиус, младший охранник, был самым мягким из охранников. Он никогда не раздувал дело, если кто-то отлынивал от работы или если норма не выполнялась. Он никогда никого не подгонял, никогда никого не бил за то, что работа не закончена. Случалось, позволял покурить или давал передохнуть подольше, чего не делал никакой другой охранник.
— Правда ведь, господин Козеф Й., правда? — умоляюще твердил Фабиус.
— Что правда, то правда, — сказал Козеф Й.
А битье, битье, которое он предписывал заключенным, оно ведь никого не убило! И не такое оно было, чтобы разрушить здоровье человека или вывести его на ощутимое время из трудового строя. Да, он признает, битье было очень болезненным, может, самым болезненным из тех, что предписывались, но болезненным только одномоментно. Козеф Й. помнит же и это, так ведь?
— Как не помнить! — подтвердил тот.
Так что никто не мог бы утверждать, что очень уж долго провалялся на больничной койке в результате нанесенных им, Фабиусом, побоев. Некоторые охранники проламывали черепа и грудные клетки, вырывали куски мяса. Разве он, Фабиус, когда-нибудь делал что-нибудь подобное?
— Нет, никогда, — подтвердил Козеф Й.
И не так уж часто он их бил! Другие охранники занимались рукоприкладством гораздо чаще. Он, правда, бил по определенным дням недели. То есть у него была регулярность, да, было такое. Заключенные, все, знали распорядок его битья. Они точно знали, по каким дням недели и даже в какие часы, знали даже до минуты, когда на Фабиуса находило. Да, заключенные все эти вещи знали и, может, из-за этого тоже были затерроризированы. Другими словами, их больше всего терроризировала мысль, что им надо поджидать эту точно известную минуту и что один из них, с неумолимостью, должен будет принять на себя все безумие этой минуты. Может, это было невыносимее, чем сами побои.
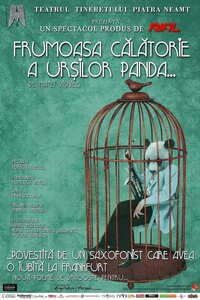
…Как-то утром саксофонист, явно перебравший накануне с вином, обнаруживает в своей постели соблазнительную таинственную незнакомку… Такой завязкой мог бы открываться бытовой анекдот. Или же, например, привычная любовная мелодрама. Однако не все так просто: загадочная, нежная, романтическая и в то же время мистическая пьеса Матея Вишнека развивается по иным, неуловимым законам и таит в себе множество смыслов, как и вариантов прочтения. У героя есть только девять ночей, чтобы узнать странную, вечно ускользающую девушку — а вместе с ней и самого себя.

Матей Вишнек (р. 1956), румынско-французский писатель, поэт и самый значительный, по мнению критиков, драматург после Эжена Ионеско, автор двадцати пьес, поставленных более чем в 30 странах мира. В романе «Синдром паники в городе огней» Вишнек уверенной рукой ведет читателя по сложному сюжетному лабиринту, сотканному из множества расходящихся историй. Фоном всего повествования служит Париж — но не известный всем город из туристических путеводителей, а собственный «Париж» Вишнека, в котором он открывает загадочные, неведомые туристам места и где он общается накоротке с великими тенями прошлого — как на настоящих Елисейских полях.

Авторская мифология коня, сводящая идею войны до абсурда, воплощена в «феерию-макабр», которая балансирует на грани между Брехтом и Бекеттом.
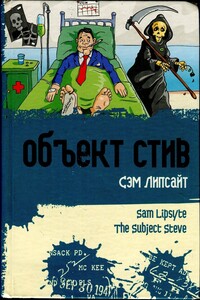
…Я не помню, что там были за хорошие новости. А вот плохие оказались действительно плохими. Я умирал от чего-то — от этого еще никто и никогда не умирал. Я умирал от чего-то абсолютно, фантастически нового…Совершенно обычный постмодернистский гражданин Стив (имя вымышленное) — бывший муж, несостоятельный отец и автор бессмертного лозунга «Как тебе понравилось завтра?» — может умирать от скуки. Такова реакция на информационный век. Гуру-садист Центра Внеконфессионального Восстановления и Искупления считает иначе.

Сана Валиулина родилась в Таллинне (1964), закончила МГУ, с 1989 года живет в Амстердаме. Автор книг на голландском – автобиографического романа «Крест» (2000), сборника повестей «Ниоткуда с любовью», романа «Дидар и Фарук» (2006), номинированного на литературную премию «Libris» и переведенного на немецкий, и романа «Сто лет уюта» (2009). Новый роман «Не боюсь Синей Бороды» (2015) был написан одновременно по-голландски и по-русски. Вышедший в 2016-м сборник эссе «Зимние ливни» был удостоен престижной литературной премии «Jan Hanlo Essayprijs». Роман «Не боюсь Синей Бороды» – о поколении «детей Брежнева», чье детство и взросление пришлось на эпоху застоя, – сшит из четырех пространств, четырех времен.

Hе зовут? — сказал Пан, далеко выплюнув полупрожеванный фильтр от «Лаки Страйк». — И не позовут. Сергей пригладил волосы. Этот жест ему очень не шел — он только подчеркивал глубокие залысины и начинающую уже проявляться плешь. — А и пес с ними. Масляные плошки на столе чадили, потрескивая; они с трудом разгоняли полумрак в большой зале, хотя стол был длинный, и плошек было много. Много было и прочего — еды на глянцевых кривобоких блюдах и тарелках, странных людей, громко чавкающих, давящихся, кромсающих огромными ножами цельные зажаренные туши… Их тут было не меньше полусотни — этих странных, мелкопоместных, через одного даже безземельных; и каждый мнил себя меломаном и тонким ценителем поэзии, хотя редко кто мог связно сказать два слова между стаканами.

Пути девятнадцатилетних студентов Джима и Евы впервые пересекаются в 1958 году. Он идет на занятия, она едет мимо на велосипеде. Если бы не гвоздь, случайно оказавшийся на дороге и проколовший ей колесо… Лора Барнетт предлагает читателю три версии того, что может произойти с Евой и Джимом. Вместе с героями мы совершим три разных путешествия длиной в жизнь, перенесемся из Кембриджа пятидесятых в современный Лондон, побываем в Нью-Йорке и Корнуолле, поживем в Париже, Риме и Лос-Анджелесе. На наших глазах Ева и Джим будут взрослеть, сражаться с кризисом среднего возраста, женить и выдавать замуж детей, стареть, радоваться успехам и горевать о неудачах.
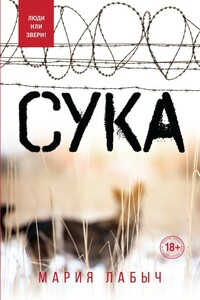
«Сука» в названии означает в первую очередь самку собаки – существо, которое выросло в будке и отлично умеет хранить верность и рвать врага зубами. Но сука – и девушка Дана, солдат армии Страны, которая участвует в отвратительной гражданской войне, и сама эта война, и эта страна… Книга Марии Лабыч – не только о ненависти, но и о том, как важно оставаться человеком. Содержит нецензурную брань!

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».
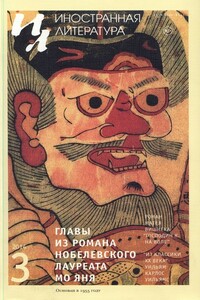
В рубрике «Ничего смешного» — рассказ немецкой писательницы Эльке Хайденрайх «Любовь и колбаса» в переводе Елены Леенсон. Рассказ, как можно догадаться по его названию, о столкновении возвышенного и приземленного.
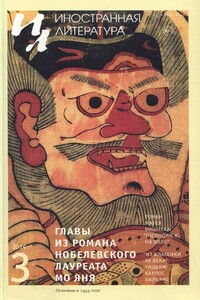
В рубрике «Из классики XX века» речь идет о выдающемся американском поэте Уильяме Карлосе Уильямсе (1883–1963). Перевод и вступительная статья филолога Антона Нестерова, который, среди прочего, ссылается на характеристику У. К. Уильямса, принадлежащую другому американскому классику — Уоллесу Стивенсу (1879–1955), что поэтика Уильямса построена на «соединении того, что взывает к нашим чувствам — и при этом анти-поэтического». По поводу последней, посмертно удостоившейся Пулитцеровской премии книги Уильямса «Картинки, по Брейгелю» А. Нестеров замечает: «…это Брейгель, увиденный в оптике „после Пикассо“».
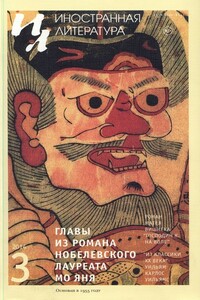
В рубрике «Сигнальный экземпляр» — главы из романа китайского писателя лауреата Нобелевской премии Мо Яня (1955) «Колесо мучительных перерождений». Автор дал основания сравнивать себя с Маркесом: эпическое повествование охватывает пятьдесят лет китайской истории с 1950-го по 2000 год и густо замешано на фольклоре. Фантасмагория социальной утопии и в искусстве, случается, пробуждает сходную стихию: взять отечественных классиков — Платонова и Булгакова. Перевод и вступление Игоря Егорова.
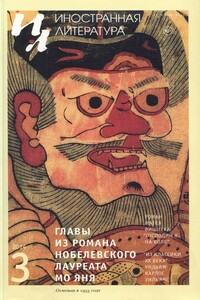
Рубрика «Литературное наследие». Рассказ итальянского искусствоведа, архитектора и писателя Камилло Бойто (1836–1914) «Коснись ее руки, плесни у ног…». Совсем юный рассказчик, исследователь античной и итальянской средневековой старины, неразлучный с томиком Петрарки, направляется из Рима в сторону Милана. Дорожные превратности и наблюдения, случайная встреча в пути и возвышенная влюбленность, вознагражденная минутным свиданием. Красноречие сдобрено иронией. Перевод Геннадия Федорова.