Другая история. «Периферийная» советская наука о древности - [71]
Чтобы оставлять его в рамках научного рассуждения, следует сразу же изъять внешний фактор, который не имеет отношения к усилиям ученого сообщества, – то есть совершенно некорректно писать о том, что было бы, если бы оттепель продлилась дольше.
Более обоснованным может показаться соображение, согласно которому если бы ученое сообщество само не было захвачено идеей консерватизма, оно могло не то чтобы допустить большую трансформацию, но способствовать меньшему сворачиванию дискуссий. Здесь есть рациональное зерно: действительно, многим преподавателям истории, которые составляли «читающий электорат» научного мира, достижений 1955 г. было вполне достаточно (а иным даже много), и поэтому спустя полтора десятилетия они, вероятно, чувствовали себя так же, как многие ранние советские историки в конце 1920‐х гг.: наличие даже нескольких альтернатив в рамках одной теории казалось им излишним обилием, противоречащим пониманию истины в марксизме. Но если мы будем помнить о том, что консерватизм и ученого сообщества, и его более широкого базиса в виде преподавателей высшей и средней школы был не результатом свободного выбора, а следствием отбора предшествующих лет, то рассуждение о возможной большей «либеральности» этого сообщества сильно теряет в своей убедительности.
Если же поднимать проблему альтернатив не сквозь призму «советов из будущего», когда исследователь полагает, будто люди прошлого представляли ситуацию примерно так же, как и он сам, то я вынужден констатировать, что принципиальных вариаций развития я не вижу – не считать же таковой вероятность частично легитимировать еще какое-то количество прежде периферийных авторов. Совершенно очевидно, что возможность глубинного пересмотра теоретических представлений о древнем обществе была закрыта буквально на политическом уровне, точно так же как и обновление взглядов вкупе с преодолением стереотипов было невозможно заметно убыстрить или сделать необратимым – и это касается как более широкой аудитории, так и самих историков.
Но главный довод, который обосновывает фактическое отсутствие альтернатив, другой: сама периферия, которая использовалась как инструмент для подновления, обладала ограниченным предложением. В общем-то, все «новые» идеи в историографии древности оттепельного периода – это либо производные от тех концепций, которые не вошли в мейнстрим на раннем этапе, либо корректировки крайностей мейнстрима, которые исходили из тех же базовых положений, что и он сам.
И конечно, большим заблуждением того времени было представление о том, будто ответ на вопрос, был ли это рабовладельческий строй или нет (феодальный, азиатский? кабаловладельческий?![564]), является действительно важным. Думаю, ведущие участники обсуждений уже в те годы понимали, что каким бы ни был ответ, его придется снабжать большим количеством оговорок. Это делало избыточными любые новые предложения и ставило рано или поздно вопрос о принципиальном разрубании гордиева узла советской историографии. Но принципиальное решение означало, что нужно отказаться от рабовладения с оговорками (или чего угодно другого) и сформулировать на уровне теории, например, положение о спектре статусов (напомню, советские историки сами фактически придерживались его при работе с конкретным материалом). Но это означало бы расставание с марксизмом-ленинизмом по меньшей мере в том его виде, в котором он представал тогда, на которое не были готовы не только представители мейнстрима, но и вряд ли хоть один из периферийных историков. Судя по всему, остроту этого вопроса они еще даже не осознавали, но ощущение бесперспективности частных пересмотров должно было нарастать – особенно у тех, кто был ближе к центру.
Исчерпание возможностей для настоящего пересмотра фактически сделало безальтернативным наступление в целом умеренной реакции.
Часть третья.
Периферия как надежда
ГЛАВА 1
ТЕНДЕНЦИИ ПЕРИОДА: НАЧАЛО ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ «ЯДРА»
Я не готов заявить, что любые компромиссы в науке – как пресловутый худой мир, который лучше доброй ссоры, но, рискуя превратить хлесткий афоризм в банальное наблюдение, могу предположить, что компромиссы, которые скрадывают много мелких и крупных научных конфликтов и противоречий, – весьма сомнительное достижение. Ввиду самих условий своего складывания они не в состоянии эти конфликты разрешить, но в итоге сами становятся условной ценностью, ради которой (чтобы не нарушать компромисс!) решение проблем откладывается до бесконечности, до той поры, пока не обесценивается вся система, а решения оказываются просто невозможны. На мой взгляд, именно в эту ловушку попала советская историография – как минимум древности, о которой я имею смелость судить более определенно. Это, конечно, пока только общая формулировка, и ее нужно пояснить.
Алексей Алексеевич Вигасин рассказал мне историю о Г. Ф. Ильине, которая в этом отношении совершенно показательна. Исследуя творчество Ильина, я не мог понять, как историк, который прекрасно видел целый широкий спектр зависимых состояний работников в Древней Индии[565], мог стоять на позициях рабовладельческой концепции – без каких-либо серьезных оговорок. Рассказанная история это объясняет (с разрешения А. А. Вигасина я цитирую его письмо): «В 70‐е годы я тесно общался с Г. Ф. Ильиным (вместе писали главу об Индии в „Истории Древнего Востока“). Мне приходилось с ним жарко спорить, ибо он в эти годы, как Вы знаете, занимал крайне консервативную позицию. И я был поражен тем, как он резко отзывался о большевиках и советской власти (иногда достаточно громко высказывался и на людях – как-то раз в читальном зале ИНИОН). У него никакого страха перед властью не было. И человек он был безукоризненной честности – так что и карьерных соображений быть не могло. Но он боялся вот чего: что любые отклонения от формационной схемы приведут к отказу от единства всемирной истории. А в конечном счете, поставят под вопрос саму закономерность развития или познаваемость этих законов. Тем самым заменят историю, как науку, на субъективные занимательные рассказы».
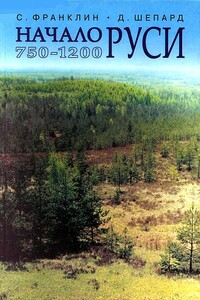
Монография двух британских историков, предлагаемая вниманию русского читателя, представляет собой первую книгу в многотомной «Истории России» Лонгмана. Авторы задаются вопросом, который волновал историков России, начиная с составителей «Повести временных лет», именно — «откуда есть пошла Руская земля». Отвечая на этот вопрос, авторы, опираясь на новейшие открытия и исследования, пересматривают многие ключевые моменты в начальной истории Руси. Ученые заново оценивают роль норманнов в возникновении политического объединения на территории Восточноевропейской равнины, критикуют киевоцентристскую концепцию русской истории, обосновывают новое понимание так называемого удельного периода, ошибочно, по их мнению, считающегося периодом политического и экономического упадка Древней Руси.
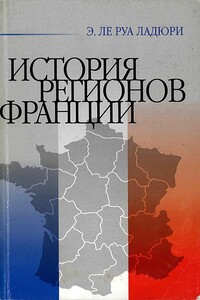
Эмманюэль Ле Руа Ладюри, историк, продолжающий традицию Броделя, дает в этой книге обзор истории различных регионов Франции, рассказывает об их одновременной или поэтапной интеграции, благодаря политике "Старого режима" и режимов, установившихся после Французской революции. Национальному государству во Франции удалось добиться общности, несмотря на различия составляющих ее регионов. В наши дни эта общность иногда начинает колебаться из-за более или менее активных требований национального самоопределения, выдвигаемых периферийными областями: Эльзасом, Лотарингией, Бретанью, Корсикой и др.

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

Пособие для студентов-заочников 2-го курса исторических факультетов педагогических институтов Рекомендовано Главным управлением высших и средних педагогических учебных заведений Министерства просвещения РСФСР ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ, Выпуск II. Символ *, используемый для ссылок к тексте, заменен на цифры. Нумерация сносок сквозная. .
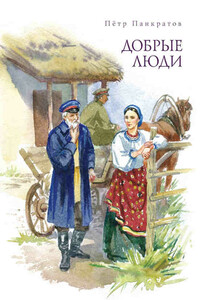
В книге П. Панкратова «Добрые люди» правдиво описана жизнь донского казачества во время гражданской войны, расказачивания и коллективизации.
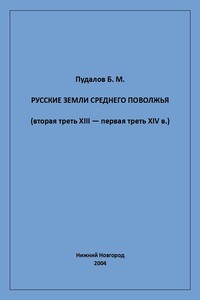
В книге сотрудника Нижегородской архивной службы Б.М. Пудалова, кандидата филологических наук и специалиста по древнерусским рукописям, рассматриваются различные аспекты истории русских земель Среднего Поволжья во второй трети XIII — первой трети XIV в. Автор на основе сравнительно-текстологического анализа сообщений древнерусских летописей и с учетом результатов археологических исследований реконструирует события политической истории Городецко-Нижегородского края, делает выводы об административном статусе и системе управления регионом, а также рассматривает спорные проблемы генеалогии Суздальского княжеского дома, владевшего Нижегородским княжеством в XIV в. Книга адресована научным работникам, преподавателям, архивистам, студентам-историкам и филологам, а также всем интересующимся средневековой историей России и Нижегородского края.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.