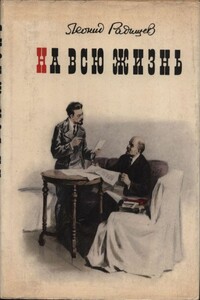Долина павших - [89]
— Вот уж нет, старина! Тут ты ошибаешься! — Он резко выпрямился в кресле. — Когда ты пишешь, ты видишь то, чего не удается разглядеть никому, короче говоря, то, что называешь правдой. А стоит тебе заговорить, и порою кажется, что ты не глух, а слеп. В конечном счете стране останутся три бесспорно настоящие вещи: народ, ты и я.
— Почему же только мы трое, сеньор? — И даже не слыша себя, я знал, что кричу. — Какое у нас на то моральное право, у нас, которые в минуты испытаний отворачиваются от всех? Если есть божий суд, то вас на нем ждет та же кара, что народ и меня самого.
— Из сказанного я должен сделать вывод, что, будь ты богом, ты не простил бы ни того, ни другого, ни третьего.
— Ваше величество может делать выводы, какие ему нравятся. Но в данном случае вы совершенно правы. Я — никто, но я прекрасно знаю, что кара вам уготована та же, что и нам.
— Мы с тобой очень разные, старина, и ты — еще безжалостнее меня. — Он снова пожал плечами. — Я всегда считал себя тигром, потому что ни разу не простил ни одного своего врага, и совесть меня за это не грызла. Не простил своей матери, покойницы; не простил Годоя, он теперь в изгнании; не простил Риего, даже когда его казнили; и Наполеона в аду тоже не простил, потому, что он грабил и оскорблял меня, когда я был беззащитен. Все меня травили и унижали, точно паршивую собаку, и я всегда — и в этой жизни, и в любой другой — буду для них как бешеный пес. И если бы вдруг явился призрак моей первой жены, человека, которого я любил больше всех на свете, и на коленях стал бы молить меня простить кого-нибудь из них — хотя бы мою мать, — я бы отвернулся, чтобы не слышать мольбы. — Он попытался улыбнуться, как будто улыбка могла смягчить металл в голосе. — Не думал ты, что я такой упрямый, правда? Злость — тоже достоинство, и этим достоинством обладаю я и мой народ.
Злобный, да, я знал, что он злобный. И подумал: а каким ему представляется народ? Людьми вроде той цыганки, его любовницы, Пепы из Малаги, или охальника — шута по кличке Лысый, некогда обычного сутенера, или вроде Угарте, в прежние времена грузчика, — словом, всей этой швали, что наедине тыкает ему и называет хозяином. Убежден, это отребье по духу ему ближе, чем все короли Европы. Меня вдруг пронзило, что мысль эта — не моя. Она принадлежала человеку, который, возможно, того не зная, был мною во время, еще не наставшее: человеку, которого в балагане на рю-дю-Манеж увидел в картах Живой Скелет.
— Но больше, чем все эти покойники, и больше даже, чем Годой, над вами надругался народ, шесть лет назад ворвавшись сюда во дворец. Вы что — забыли об этом?
— И еще больше — потом, когда я отказал в доверии правительству и вызвал правительственный кризис, надеясь, что в Мадрид подоспеют «сто тысяч сыновей святого Людовика»[114] — вызволить меня из лап либералов. Чернь ворвалась с дьявольскими воплями, а королевская стража стояла, сложа руки, а то и вовсе браталась с толпой. Они переколотили палками все подвески на люстрах — им, видишь ли, нравилось, как они звякали, — вспороли ножами диваны. Мы спрятались на чердаке, за щетками и старыми циновками, сидели и слушали, как они орали, что меня вздернут, а королеву отошлют обратно в Германию, в публичный дом. Представь, что творилось с бедняжкой женой, моей третьей женой, она была такая благочестивая! Стихи писала ко дню непорочного зачатия. А еще большее унижение ждало летом, когда Кортесы сместили меня, объявив ненормальным. В закрытой карете отправили нас из Севильи в Кадис, потому что к тому времени «сто тысяч сыновей святого Людовика» уже вошли в Андалусию. Мы ехали мимо селений, и крестьянские орды набрасывались на карету, заставляли нас прижиматься лицом к стеклу и плевали в нас. В карете было адское пекло, слов нет рассказать. Сколько раз королева падала в обморок. Я, было, подумал, что она совсем умерла…
— И все-таки вы их простили.
— Тот же самый народ оказывал нам почет в Мадриде, когда нас освободили войска герцога Ангулемского. В те дни я мог ходить по улицам один и без оружия, и люди готовы были драться за то, чтобы целовать мне ноги. В храмах выставляли мое гипсовое изображение в мантии, взятой из театральной костюмерной. Я простил народ по той же самой причине, по какой еще раньше простил тебя за предательство, за то, что ты якшался с королем-самозванцем. По той же самой причине, по какой и себе всегда прощаю предательство. Ты, я, народ — мы совершенно одинаковые. В этом мире-сне одни мы — настоящие. Ради спасения жизни готовы расстаться со всем — и с честью и с душою, потому что в глубине этой самой души уверены: нет ничего настоящего — во всяком случае, на земле, — кроме нас самих… Не знаю, понял ли ты, что я хотел сказать.
— Очень хорошо понял, сеньор. Но я помню, и как вы мстили.
— Народ мстил: казни вершились публично и всемерно одобрялись. Бунтовщиков я никогда не жалел, настоящих бунтовщиков — не тех, кто защищал собственную жизнь, а всякие химеры вроде свободы или прав человека. Вместе с Торрихосом[115] и его людьми взяли двенадцатилетнего мальчишку, он был у заговорщиков посыльным. Помню, когда ворвались во дворец и заставляли принять конституцию, мне показали другого парнишку и орали, что это — сын генерала Ласи, которого я когда-то велел расстрелять. Так вот, я собственной рукой написал приказ о казни Торрихоса и его банды. А внизу приписал: «Мальчишку тоже казнить». Тебя это шокирует, старина?

Роман Дмитрия Конаныхина «Деды и прадеды» открывает цикл книг о «крови, поте и слезах», надеждах, тяжёлом труде и счастье простых людей. Федеральная Горьковская литературная премия в номинации «Русская жизнь» за связь поколений и развитие традиций русского эпического романа (2016 г.)
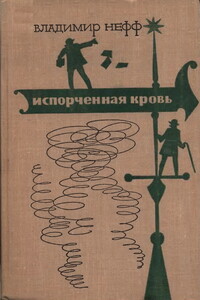
Роман «Испорченная кровь» — третья часть эпопеи Владимира Неффа об исторических судьбах чешской буржуазии. В романе, время действия которого датируется 1880–1890 годами, писатель подводит некоторые итоги пройденного его героями пути. Так, гибнет Недобыл — наиболее яркий представитель некогда могущественной чешской буржуазии. Переживает агонию и когда-то процветавшая фирма коммерсанта Борна. Кончает самоубийством старший сын этого видного «патриота» — Миша, ставший полицейским доносчиком и шпионом; в семье Борна, так же как и в семье Недобыла, ощутимо дает себя знать распад, вырождение.

Роман «Апельсин потерянного солнца» известного прозаика и профессионального журналиста Ашота Бегларяна не только о Великой Отечественной войне, в которой участвовал и, увы, пропал без вести дед автора по отцовской линии Сантур Джалалович Бегларян. Сам автор пережил три войны, развязанные в конце 20-го и начале 21-го веков против его родины — Нагорного Карабаха, борющегося за своё достойное место под солнцем. Ашот Бегларян с глубокой философичностью и тонким психологизмом размышляет над проблемами войны и мира в планетарном масштабе и, в частности, в неспокойном закавказском регионе.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.