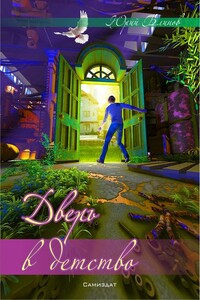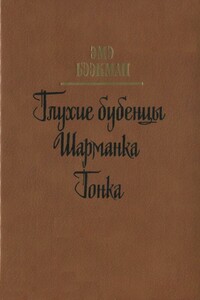Солнце еще не успело слизать блестки утренней росы с черепичной крыши мечети в селении Хасанби, как во дворе этого дома аллаха стали собираться ученики медресе. Юные сохсты[1] вели себя не очень-то благопристойно, невзирая на близость мечети, и, как это свойственно всем мальчишкам, бегали и шалили, оглашая двор веселыми криками.
Только Харис молча и потерянно стоял у ворот, не принимая никакого участия в общей возне и не обращая внимания на шумные забавы своих однокашников.
Мальчик прислонился к стойке ворот, застывшей за долгую осеннюю ночь, и, казалось, вовсе не чувствовал холода, который легко добирался до его тела сквозь ветхую рубашонку.
Он был охвачен беспокойством. То, что предстояло ему сегодня, целиком занимало его. Ни о чем другом он думать не мог.
В который раз Харис со страхом пытался представить себе, как это будет.
…Медленно и неотвратимо протянется к нему длинная белая рука эфенди, в которую Харис должен вложить двадцатикопеечную монету, завернутую в новый носовой платок из чистого шелка.
На несколько секунд холеная ладонь муллы неподвижно застынет в воздухе, потом резко опустится, и эфенди грозно уставится на Хариса своим сверлящим взглядом. И лишь аллах знает, что произойдет дальше.
В одном мальчик был почти уверен: от эфенди нечего ожидать пощады. А откуда Харису, сыну бедного пастуха, взять шелковый платок и двугривенный?
И хотя руки мальчика машинально обшаривали карманы, — чуда не случалось: кроме прорех, в карманах ничего не было.
Он не принес эфенди подарка и нарушил обычай…
Ожидание церемонии, которая вскоре должна была состояться, обычно повергало в уныние детей бедняков, не имевших за душой ни полушки. Сынки сельских богатеев, наоборот, ждали с нетерпением, как настоящего праздника, нарушавшего монотонные будни хасанбиевского медресе. Ритуал этот назывался «кручением языка» и устраивался всякий раз, как только мулла заканчивал со своими воспитанниками зубрежку очередной главы из корана.
«Языковерчение» приобрело, таким образом, магический смысл, якобы содействуя закреплению уже полученных знаний и успешному усвоению новых.
Дети, ходившие в медресе, обязаны были подносить своему духовному наставнику традиционный сий[2], как бы в уплату за труды и за то, что мулла «вкрутит» каждому из них язык, обмотав его розовый кончик шелковым носовым платком.
Харис накануне одолел наконец малый коран, и в знак благополучного завершения этого многотрудного дела эфенди намеревался «вправить» мальчишке язык именно сегодня.
Стоило это двадцать копеек, которых у Хариса не было. Он знал о вошедшей в пословицу жадности эфенди, но в глубине души все же надеялся, что старик смилостивится над ним и простит за бедность.
Увы, надежда — это то, что многие отцы оставляют своим детям в наследство.
…Не в силах отделаться от грустных мыслей, мальчик с тайной завистью поглядывал на своих беззаботных сверстников, но, убедившись, что, увлеченные игрой, они не обращают на него ровно никакого внимания, со вздохом опускал голову.
С детства он был тихим, робким и неразговорчивым; Никто не научил его противостоять невзгодам, которые жизнь преподносила ему довольно часто. Подавленный постоянными неурядицами, он смирился и. принимал их как нечто само собою разумеющееся, «ниспосланное ему аллахом». От природы скромный и уважительный, Харис принадлежал к числу тех, кто не возьмет чурека, протянутого ему из милосердия, пока не уверится, — что нет никого другого, кто нуждался бы в этом чуреке больше, чем он.
Рос мальчуган в постоянной нужде и, как и его родители, едва сводившие концы с концами в своем немудрящем хозяйстве, призвание свое и радость видел только в молитве аллаху. Именно из таких и выходят обычно рьяные приверженцы мусульманства, отдающие себя богу слепо, не рассуждая.
Отец маленького сохсты был человеком незаметным и богобоязненным. За долгие годы смиренного поклонения всевышнему он основательно протер свой чабанский дубленый полушубок, на котором преклонял колени во время намаза[3]. Не отставала от него жена, часами не сходившая с намазлыка[4]. А когда Харису по возвращении из медресе случалось дома читать коран или петь тягучий зачир[5], слегка подвывая и проглатывая окончания слов, как это делал сам эфенди, родители мальчика пребывали на верху блаженства.
Происходило это, по обыкновению, вечерами, когда с хозяйственными делами бывало покопчено и семья собиралась у догорающего очага.
Отец и мать сидели у огня молча, с повлажневшими глазами, и, позабыв об усталости и обо всем на свете, мысленно благодарили бога за то, что он послал им такого сына.
И Харис старался изо всех сил.
Он тянул мелодию гладко и напористо, поднимая ее все выше и выше. Казалось, нет преград этому тоненькому звонкому голосу. Но вот голосок его, дрогнув, срывался и, падая вниз, глуховато роптал, заканчивая молитву. Это место зачира отец Хариса любил больше всего. Украдкой смахнув с ресниц набежавшие слезы, он степенно поглаживал бороду и, подмигнув жене, говорил солидно и громко: «Из этого парня, пожалуй, выйдет мужчина!»