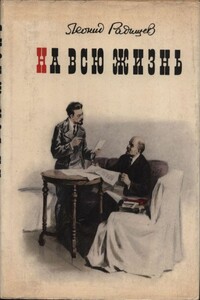Долина павших - [91]
— Одну и ту же, Ваше величество?..
— Ту, что умерла давным-давно. Невозможно подумать, что не умри она — стала бы старухой.
— Да, — снова согласился я, а память уже взялась извлекать из прошлого и ткать тени. — Невозможно подумать.
— Я говорю о Марии Тересе, — излишне уточнил он, все еще смеясь как ненормальный. — Помнишь ее, старина?
— Она всегда со мной, Ваше величество.
— Моя мать считала ее дьяволицей. Я давно не вспоминал ее. Наверное, несколько лет. Не знаю почему, но сегодня из-за тебя вспомнил. Ты был ее любовником, а я еще ребенком, но я молча обожал ее. Просто с ума сходил по ней. Плут ты эдакий, в те поры ты себе ни в чем не отказывал! В царствование моих родителей ты при дворе был главным сатиром. До чего же мне хотелось тогда слиться с тобой, чтобы все твое — до мозга костей — стало и моим тоже! Я желал ее так, как желают жизни в момент, когда эту жизнь у тебя собираются отнять. А как хороша она, наверное, была в постели, эдакая молоденькая кобылица! Разве не так? Вот закрываю глаза и ясно вижу ее, как тебя сейчас, передо мною, растрескавшегося от старости. Таких женщин больше не родится на свет, правда? Как говорится, секрет утерян!
Перед смертью мне суждено потерять речь. Вся правая сторона, от щеки и до пальцев на ноге, верно, уже отмерла, я ее не чувствую. Смотрю на правую руку: она лежит на простыне, опять как чужая. Может, это рука того человека, чей голос звучит иногда во мне — из времени, которое еще не настало. На этот раз я окончательно и бесповоротно возвращаюсь к «Яростной нелепице», ибо это и есть смерть. Моя смерть на этой постели или в его книге, которую он напишет в грядущем веке. Как бы то ни было, не пережить мне Желанного, у которого иногда вдруг проскальзывал взгляд раненого олененка, точно у Марии дель Пилар Дионисии в колыбельке. И не вернуться мне живым в Испанию, где он сказал мне однажды: позволить себе умереть — величайшее из человеческих безумий.
Приехал Хавьер, я успел еще обнять его до того, как у меня случился последний удар. Потом, когда я уже был нем и недвижим, они с невесткой и Марианито переехали в гостиницу, потому что его жена не могла выносить этого зрелища — как я умираю. Все это нехотя поведала мне Леокадия, когда я звал сына и внука. Одного не сказала — куда она девала Росарито, видно щадит, прячет, чтобы та не видела бесконечной, мучительной стариковской смерти. Сама Леокадия совсем исхудала и постарела от бессонных ночей, сидит у постели, не отходит ни днем, ни ночью и уже не поминает моих и ничего не говорит про наследство. («Ты совсем слеп, не видишь даже собственной глупости! Дурак из дураков! Не понимаешь разве, они и приехали за одним: убедиться, что ты не изменил завещания? Плевать им на твою кровь, твое имя, да и на саму твою жизнь, им бы знать только, что они получат твои деньги, дом и картины. Получи они все это теперь же, они бы бросили тебя на чужбине и в глаза бы тебе не глянули…») Но сегодня ночью и Леокадия уснула, усталость одолела. Около меня остались люди, мне совсем чужие. Два врача-француза (Vous êtes un gran homme, un peintre de la Chambre. On va vous soigner!), хозяин дома, Хосе Пио де Молина, в прежние времена, после победы Риего, — алькальд Мадрида, и мой ученик из Академии Сан-Фернандо, последовавший за мною в изгнание, — Антоньито Бругада. Вот бы сказать им: еще немного, и я окажусь в обществе Веласкеса.
Вслед за речью отказало зрение. Теперь вокруг меня — полная тишина, потому что по губам читать больше не могу. Хотя еще различаю с трудом силуэты и совсем неясно — лица. На врачах черные сюртуки. Бородки, как у Ван-Дейка. Они их стригут, холят и расчесывают каждый на свой лад. Опять давали валериановый корень: на этот раз он не помог. Ставили пиявки — они не присосались. Меня обтирали, прослушивали, всего разрисовали иодом, спалили горчичниками. Не додумались только кропить святой водой и заговаривать. Антоньито Бругада мечется по спальне; этот парнишка (для меня — все еще парнишка, хотя он уже в возрасте) очень недурно пишет марины. Пока я еще различал лица, видел: глаза и нос у него красные, верно от слез. Он наклоняется над постелью и разглядывает меня в фас, в профиль, в три четверти. Как бы он ни горевал — а думаю, горюет он всем сердцем, — художник берет в нем верх, и он уже готовится рисовать меня, мертвого, хотя, возможно, сам не осознает своего намерения.
Хосе Пио де Молина — высокий, грустный и хилый, словно чиновник Святой инквизиции. Он — самый свободолюбивый и самый щедрый из всех, кого я знал, хотя близко познакомился с ним только на чужбине. Незаконченным останется его портрет, который я начал уже больным. Пока он мне позировал, я рассказал ему кое-что из последнего разговора с Желанным. («Когда вы возвратились из Валансе, вы были Желанным, единственным и неповторимым. Думаю, не было на свете человека, которого бы ждали так, как вас. Помните, как чернь рыдала и целовала вам руки на дороге к источнику Святого Исидро? Тогда вы могли все начать с нуля и стать по-настоящему королем для всех нас. Наш народ — скопище лютых зверей и дураков, который не найдет себя, пока не поймет собственной жестокости и глупости, — во имя того, чтобы преодолеть их. И вам, сеньор, следовало помочь народу в этом, такого случая больше не повторится».) «Грустно, что народу приходится ждать чьей-то смерти, чтобы найти свое будущее, — сказал Пио де Молина, — потому что мертвые только хоронят мертвых. Сам Христос утверждал, что ни на что другое они не годятся». Я спросил, не думает ли он, что у нас вообще нет будущего и что спустя столетие, а может, и полтора двое испанцев, такие же, как и мы, изгнанники, в Бордо, повторят наши сомнения и наши слова. «Вполне может случиться, — ответил он, прикрывая узкие, как у чиновника инквизиции, глаза, — потому что судьба наша кажется не настоящей, а написанной каким-нибудь сумасшедшим писателем, и оттого здесь из века в век повторяется одно и то же».

Роман Дмитрия Конаныхина «Деды и прадеды» открывает цикл книг о «крови, поте и слезах», надеждах, тяжёлом труде и счастье простых людей. Федеральная Горьковская литературная премия в номинации «Русская жизнь» за связь поколений и развитие традиций русского эпического романа (2016 г.)
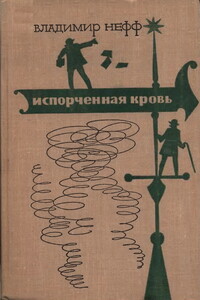
Роман «Испорченная кровь» — третья часть эпопеи Владимира Неффа об исторических судьбах чешской буржуазии. В романе, время действия которого датируется 1880–1890 годами, писатель подводит некоторые итоги пройденного его героями пути. Так, гибнет Недобыл — наиболее яркий представитель некогда могущественной чешской буржуазии. Переживает агонию и когда-то процветавшая фирма коммерсанта Борна. Кончает самоубийством старший сын этого видного «патриота» — Миша, ставший полицейским доносчиком и шпионом; в семье Борна, так же как и в семье Недобыла, ощутимо дает себя знать распад, вырождение.

Роман «Апельсин потерянного солнца» известного прозаика и профессионального журналиста Ашота Бегларяна не только о Великой Отечественной войне, в которой участвовал и, увы, пропал без вести дед автора по отцовской линии Сантур Джалалович Бегларян. Сам автор пережил три войны, развязанные в конце 20-го и начале 21-го веков против его родины — Нагорного Карабаха, борющегося за своё достойное место под солнцем. Ашот Бегларян с глубокой философичностью и тонким психологизмом размышляет над проблемами войны и мира в планетарном масштабе и, в частности, в неспокойном закавказском регионе.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

В 1977 году вышел в свет роман Льва Дугина «Лицей», в котором писатель воссоздал образ А. С. Пушкина в последний год его лицейской жизни. Роман «Северная столица» служит непосредственным продолжением «Лицея». Действие новой книги происходит в 1817 – 1820 годах, вплоть до южной ссылки поэта. Пушкин предстает перед нами в окружении многочисленных друзей, в круговороте общественной жизни России начала 20-х годов XIX века, в преддверии движения декабристов.