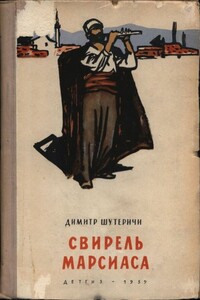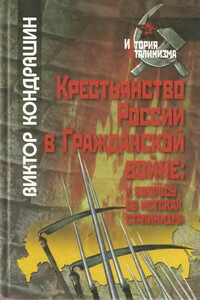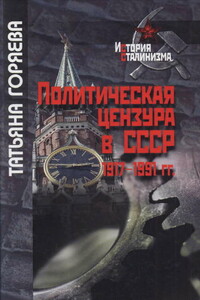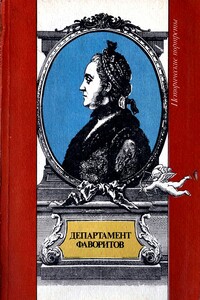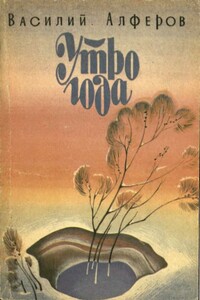Эти события, о которых я начинаю вам сегодня рассказывать, мои молодые друзья, давно минули.
Я уже не раз брался за перо, задумав написать что-нибудь для вас, но все никак не удавалось сесть за работу. Сегодня меня снова потянуло к перу и бумаге, и я хочу сдержать свое обещание, которое дал вам так давно.
Итак, приступаю к рассказам.
*
Хочу начать со своего первого путешествия.
Во времена моего детства путешествовали на лошадях. Автомобили тогда только начали появляться в Албании. А поездов, конечно, совсем не было, не говоря уж о самолетах. Теперь даже среди вас, наверное, найдутся ребята, которые летали на самолете. А тогда путешествовали только на лошадях. На лошадях я и совершил свое первое путешествие.
Шел 1920 год. Моего отца перевели на работу в Ко́рчу. Мы — коренные эльбасанцы и всегда жили в Эльбаса́не, где в течение долгих лет отец преподавал албанский язык в средней школе.
Когда я немного подрос, то узнал, что никакой необходимости в переводе моего отца из Эльбасана в Корчу не было. Отец поссорился с кем-то из начальства, а тот в отместку взял да и перевел его. В то время неоткуда было ждать справедливости. Отправить человека из родного города на новое место, до которого три дня пути, оторвать от дома и привычной обстановки было тяжелым наказанием.
Нам пришлось заколотить свой дом, погрузить все вещи и верхом на лошадях проделать этот длинный, утомительный путь.
Бедный отец отправился сперва один, чтобы устроиться на новом месте. Потом приехал и забрал семью: мою маму с двумя детьми (мной и грудной сестренкой), бабушку (по матери) и моего дядю, мальчика четырнадцати — пятнадцати лет.
Сейчас я вам расскажу, как мы тогда путешествовали. Из Эльбасана в Корчу и из Корчи в Эльбасан регулярно ходил караван лошадей. В Корчу он возил соль и растительное масло, а обратно доставлял различные товары. Иногда он перевозил путников. Другие караваны ходили в Эльбасан из Дурреса, Берата, Охри и Манастири. В Эльбасане скрещивались все важнейшие караванные пути средней Албании.
Итак, погрузили мы вещи, поверх вещей положили матрасы и одеяла, запаковали в ящики посуду, сели на лошадей и отправились в путь.
Мы ехали на крупных, рослых лошадях, сидя в высоких седлах, покрытых красными попонами с начесом. На шеях у лошадей висели колокольчики. Эти колокольчики звенели всю дорогу, звенели удивительно музыкально; их радостные трели разливались вокруг, наполняя собой леса и реки, и это так оживляло местность, что, казалось, идет не обыкновенный караван, а родственники едут на свадьбу.
Погонщики пели песни, рассказывали всякие истории, говорили о своих прошлых путешествиях, о селениях, мимо которых мы проходили, и о перевалах, которые мы преодолевали, шутили и понукали лошадей, если те отставали или не соблюдали ряд:
— Тю-тю! Тю, чтоб тебя волки съели!
И длинная дорога казалась во много раз короче, чем вы думали.
Хотя мне было тогда всего пять лет, я уже кое-что понимал и внимательно слушал рассказы погонщиков. От моих расспросов они уставали. Я спрашивал про каждую птицу, которую видел впервые, про каждый утес и дерево. А погонщики собирали красивые цветы, камни и давали мне. Когда же мы останавливались около какого-нибудь родника, они вынимали меня из ящика, в котором я сидел, и освежали водой.
Я забыл сказать вам: взрослые ехали верхом на лошадях, а нас, малышей, сажали в ящики без крышек. Нам удобно устилали эти ящики одеялами и подушками, и мы сидели там, как в коробках, покачиваясь вместе с ними.
В таком ящике я и проделал свое первое путешествие. Только голова моя возвышалась над ним — голова с черными кудряшками, а может быть, я был подстрижен тогда… что-то не помню.
С одной стороны седла висел мой ящик, а с другой стороны еще один, с каким-то домашним скарбом. В нем совершала путешествие наша кошка, белая кошка с черными пятнами. Звали ее, кажется, Лаши.
Время от времени Лаши поднималась и высовывала мордочку. Одна половина мордочки у нее была черная, другая — белая. Она осматривалась вокруг, словно желая проверить, едем ли мы, ее хозяева, вместе с ней, или мы ее покинули. Увидев нас, она мяукала от радости, пряталась обратно, и больше ее не было слышно. Потом она засыпала, свернувшись клубком, пригревшись на солнышке, как у нашего очага в Эльбасане. Уже стоял октябрь, но солнце палило, как летом.
Когда лошадь спотыкалась о камень и нас сильно встряхивало, я крепко стискивал своими маленькими ручонками края ящика, а Лаши вытягивала мордочку, испугавшись или проснувшись от этого внезапного толчка, и мяукала, будто жалуясь:
«Мяу! Мяу! Разве так можно, лошадка? Свалишь ты нас в какую-нибудь пропасть!»
Я был доволен, когда лошадь спотыкалась, потому что мне нравилось видеть скучающую и испуганную Лаши. Я говорил ей: «Кис-кис!» — а кошка, очень любившая меня, примерялась, нельзя ли перескочить ко мне через седло, но смелости на это у нее не хватало.