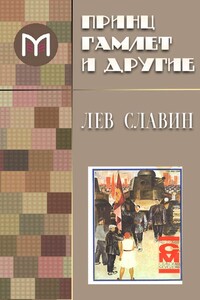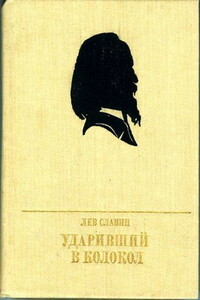РАССКАЗ
Розенкранц увлек Гильденстерна в нижнее фойе возле курилки.
До начала спектакля еще минут сорок, фойе пустынно. Я стою в темном уголке, курю, они меня не замечают. Взявшись под руки, они ходят взад и вперед. Розенкранц что-то шепчет Гильденстерну, нервно озираясь, судорожно поводя худой шеей в слишком широком вязаном воротнике.
Я наблюдаю его и в ожидании спектакля безмятежно покуриваю. Все-таки, благодушно размышляю я, Розенкранц похож на своего папу. Такой же маленький, такой же кудрявенький. Я улыбнулся, вспомнив, как Розенкранц-папа раз в месяц приходил к нашему окающему парикмахеру, и тот раскручивал его бараньи завитки, так сказать, раскудрявливал его. Однажды, усевшись в кресле и откинув лысеющее темя на подголовник, он заявил не без торжественности:
— У меня родился сын.
Парикмахер вежливо склонил голову:
— Да? И какое имя вы ему дали?
— Никодим.
Щипцы, порхавшие в руке парикмахера, на секунду замерли. Потом он сказал:
— Имя довольно редкое.
И, выдержав эффектную паузу, закончил:
— …у датчан.
По какому-то ленивому сцеплению мыслей я вспоминаю далее, что Шекспир снимал комнату у парикмахера и в комнате этой написал «Отелло», а может быть, и «Гамлета».
В это время оба придворных поравнялись со мной, и я явственно услышал, как Никодим Розенкранц сказал:
— Я, кажется, схожу с ума. Ты помнишь, что сказал Гамлет о нас с тобой: «Весело видеть, как сапер взрывается на собственной мине».
— Это становится невыносимым, — сказал Гильденстерн раздраженно. — Он охаивает нас почем зря где попало. «Зубастыми гадюками» обозвал нас! Ты-то не божишься за свою шкуру. Тестюшка в случае чего тебя выручит.
— А ты…
— Нет, нет, я не имею к этому никакого отношения. Пожалуйста, не впутывай меня в эту историю.
— Придется перегримироваться, — пробормотал Розенкранц.
Но когда он подошел ко мне, чтобы прикурить, лицо его было бесстрастно, словно секунду назад слезы не текли по его раскрашенным щекам.
Я не удержался и спросил:
— Помните, что было начертано на фронтоне театра «Глобус»?
— В чем дело?
— Totus mundus agit histrionem.
— Короче! — пробормотал этот невежественный молодой человек.
Я перевел:
— Весь мир актерствует.
Шофер зевнул так широко, словно хотел проглотить бежавшее навстречу шоссе со всеми его дорожными знаками, бензоколонками, старыми дамами, степенно прогуливающими лохматых песиков под развесистыми буками, окаймляющими дорогу. Сегодня воскресенье, наш автобус полон, на его переднем щитке надпись: «Эльсинор».
Собственно, по-датски: «Helsingor». А по-нашему, стало быть, «Гельсингёр». Но и это не совсем точно: ведь первая буква в слове Helsingor латинское «Н», не «Г» и не «Х», а отсутствующий в русской азбуке придыхательный звук. Самый-то звук присутствует в русском произношении. Но создатель нашей азбуки Петр I почему-то не ввел его в письменный алфавит, из-за чего мы вынуждены писать: «Бог», хотя произносим «Бох», или — «Гейне», хотя следовало бы: «Хайнэ».
Автобус наш обыкновенный, рейсовый, а надпись на передке сказочная. Мы и едем в сказку, в легенду, в замок Принца Датского Гамлета. Все время от самого Копенгагена — вдоль моря.) Сквозь маленькую Данию, молочно-мясную Данию, чьи реки текут молоком и пивом. Дания заливает мир пивом. Сто шестьдесят стран получают его отсюда. Пивовары одарили музеи бесценными полотнами импрессионистов. Пивовары поставили у копенгагенской набережной знаменитую Русалку. Датская Афродита родилась из пены пивной.
То, что я невольно подслушал в фойе театра в Москве, не дает мне покоя и сейчас, когда я брожу по этому древнему замку Эльсинор. Официально он называется: Кронборг. Эльсинор — городок вокруг него. Но кто же нынче говорит: Кронберг? Да и сам Гамлет, разгадав сыскные намерения Розенкранца и Гильденстерна, обратился к ним с приветствием, в котором, правда, больше издевки, чем радушия: «Господа, добро пожаловать в Эльсинор!»
Задрав голову, я смотрю на высоченную шестигранную башню, вхожу внутрь, поднимаюсь по витой каменной лестнице. Честное слово, она менее внушительна, чем грандиозная лестница, воздвигнутая Николаем Акимовым, когда он много лет назад ставил «Гамлет» на сцене вахтанговского театра.
Я иду по блистающему тронному залу. Он огромен как улица, или, если угодно, как станция метро «Арбатская». Здесь гулкое многоголосое эхо, и король Клавдий, несомненно, слышал, как Гамлет во время представления «Убийство Гонзаго, или Мышеловка» сказал Офелии: «Прекрасная мысль — лежать между ног девушки». Борис Пастернак (а может быть, его редактор) в заботе о нравственности русских читателей поправил Шекспира: «лежать у ног девушки», — написал он. Согласитесь, что это совсем не то же самое. И хотя Пастернак — великий поэт, но этот задира Гамлет под стыдливым пером переводчика (а может быть, редактора) стал совсем корректным малым, а густой язык XVI столетия, настоянный на живописном сквернословии, превратился в туалетную воду.
Сюда присоединилась армия литературоведов и шекспирологов, сделавших из Гамлета, из этого сгустка воли какую-то пену сомнений. Даже умница Кьеркегор заявил, что «быть или не быть» является чисто личным делом, и приписал это дурацкое заявление самому Гамлету.