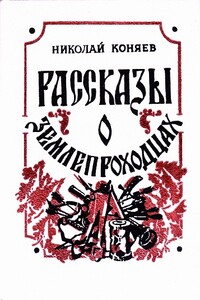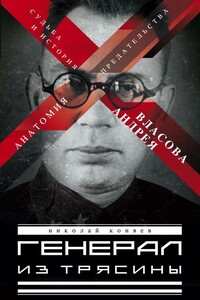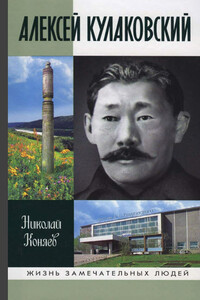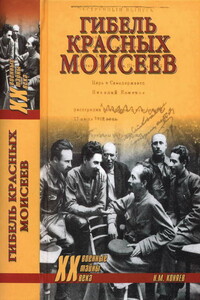Николай Коняев
Индеец Кутехин
Перед ноябрьскими Сереге Кутехину приснился сон.
Он был индейцем и скакал в безрадостную глубину равнинного пространства. И не было ни погони, ни перестрелки, только бесконечная, изнуряющая скачка и такая же бесконечная, захолодевшая прямо под сердцем тоска. Расстилались по сторонам присыпанные нищенским снежком поля, сбоку осталась свалка металлолома, а в другой стороне чернел облетающий осинник.
Сон не ушел из памяти и, еще лежа в постели, Серега усмехнулся — ну какой он к черту индеец, если всю жизнь на тракторе, и даже в детстве не садился на лошадь? Но не рассеялся с усмешкой холодок в груди. Только закашлялся Кутехин и, нашарив ногами валенки, валявшиеся возле кровати, встал.
— Херня какая-то приснилась… — пожаловался он на кухне жене. — Понимаешь, мать, приснилось, будто индеец я… Ну и скачу, значит…
Он потер рукою впалую грудь, словно надеялся растереть застоявшийся внутри холодок.
— Да ты что?! — ехидно всплеснула руками жена. — Неужто индейцем стал? А я вчерась думала, в китайское состояние превратишься. Глаза-то налил, что в разные стороны смотрели.
— Ну серьезно тебе говорю… — Кутехин взял со стола заварочный чайник и глотнул прямо из носика холодной заварки. — А вчера чего? Вчера получку давали, так что все законно, мать. Сон просто такой приснился. Скачу, понимаешь, индейцем. И такая тоска, что и сил нет. Неужто, мать, у индейцев одна тоска заместо жизни?
— Дак тебе ж виднее, раз ты индеец теперь у нас… В Сосновке вон, говорят, мужики нахлебались какой-то гадости, так и почернели все, будто негры.
Не любил Кутехин, когда на жену находило такое… Жалила она, язвила, и не могла остановиться.
— Дура ты! — вздохнул он. — Я тебе про сон толкую, а ты пьяниц сосновских приплела. Лучше объясни: к чему такой сон привиделся, да еще перед праздниками?
— А к хотеньеву дню, наверное… — не задерживаясь, ответила жена, и от ее глухоты, от невозможности докричаться со своей тоской до самого родного человека, совсем тоскливо сделалось Кутехину.
— К хотеньеву дню, говоришь? — спросил он. — Ну-ну… Может, и правда, к хотеньеву…
Кутехин посмотрел на сковородку, на которой скворчало сало с поджаренной картошкой, и передумал завтракать.
— Ты куды это, не жравши, пойдешь?! — всполошилась жена, увидев, что муж натягивает пропитанные мазутом ватные штаны.
Но было уже поздно. Теперь уже Кутехин не хотел давать обратный ход.
— На хрена жрать! — зло ответил он. — Индейцам, может, и не положено завтракать. Привыкать надо!
Ночью прошел снежок… Припорошил грязь на дороге, превратил в сугробчики груды битого кирпича, куски засохшего бетона… Но еще безрадостней сделалась присыпанная снегом земля. Уныло торчали из-под снега сухие стебли травы, палки бурьяна. Выпятился из снежной белизны покосившийся сарай, поленница дров. Тоскливо возвышалась над всем этим хозяйством кривая скворечня, в которой давно, уже которое лето, не селились никакие птицы.
Кутехин плюнул и зашагал в сторону мехдвора.
Никто в предпраздничный день там, конечно, не работал. Механизаторы сидели в сарае мастерской и курили, обдумывая, где бы достать выпивки. Можно было, конечно, сходить к Акуле Степановне, но та драла теперь за самогонку как за настоящую водку, и ходить к ней стало накладно. Тем более что причапал в сарай и старик Летунков…
Летунков убег с колхоза еще в конце пятидесятых. Убег он без справки, и сейчас непрерывно рассказывал про свою беспаспортную жизнь. Кутехин знал, что Летунков батрачил и в катаре у казаха-чабана, и на винограднике у старой абхазки — изработался совсем и, устаревший, вернулся назад в Забелье. Времена, слава Богу, изменились, и Летункову удалось даже выхлопотать пенсию, поскольку до своей беспаспортной жизни, до побега из колхоза, успел он на вполне законных основаниях повоевать и даже заслужил на фронте два ордена солдатской Славы. Так что в связи со все возрастающими заботами партии и правительства о фронтовиках определили Летункову пенсию— целых двадцать восемь рублей. Деньги, что и говорить, немалые, но к Акуле Степановне не больно с ними походишь. А выпить Летунков любил… Для этого и терся возле механизаторов. Потому как хотя и очерствели сердца механизаторов в развернувшейся борьбе с алкоголизмом, но окаменеть еще не успели, и наливали они Летункову. Немного наливали, но наливали. Уж очень жалостливо рассказывал дед про свою жизнь. Прямо плакать хотелось, послушав, как мордовали его по всей Советской Союзе…
Сейчас тоже рвал Летунков сердца мужиков. Худой, изработанный, сидел он на старой покрышке и рассказывал о своем первом хозяине.
— У его сыновья в аспирантурах учились… — слюнявя папироску, говорил Летунков. — Вот и жал он нас. Ему ж и взятки давать надо, и сыновьям на жизнь посылать. А сам работать не любил. Только водку с начальством трескал… Вот у него и постигал я свои беспаспортные права. Один раз и сказал поперек. Рассердился, распсиховался, что он важенок велел забить. Ну и началась, конешное дело, наука. Приехали милиционеры якуцкие, связали меня и давай ногами топтать. А потом свезли на станцию и бросили. Да, ребяты… Слава Богу, что не знаете вы такой жизни.