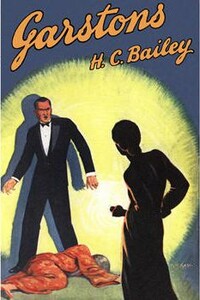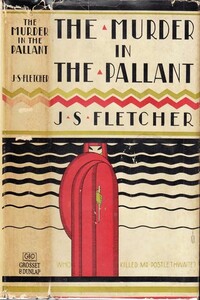Когда Агнес засиживалась за компьютером до рассвета, она слышала на чей-то кухне, через переулок, мужской картавый прокуренный голос — и шепот отлетающих по утрам в неизвестность сашевых окон. Воздух в переулке синел, наполнялся запахом запретного кофе — которого, конечно, было нельзя — потому что сил на вторые сутки работы без сна уже не было — но которого, конечно же, хотелось в этот момент больше всего на свете! — и фиолетовая рассветная дымка, мрея от жара распахнутых кухонных окон, рассеивая саму же себя, как мечтательное недоразумение, с медитативностью кофейного дымка и крепкой затяжки курильщика сигар, выпускала из себя шероховатость противоположной кирпичной стены — которую только недалекие Каррингдоны из Академии могли называть «серой» (а состояла она из малинового, горчичного и черной гари) — и теперь, в дыряво брезжущей дымке, хаотичное чередование кирпичей выпячивало крайне привлекательное, очами Агнес снедаемое цветное печенье: невзрачный, ужимисто-по-сегментам-разделённый, вытянутый вдоль всего двора, пятиэтажный, дом напротив. Нет, его окно, конечно же, уже не светилось. В последний взлет ресниц краешком внимания она играла со светом в его окне, и с чернявым его в этом окне силуэтом (с монументально усаженной, вернее, за компьютером его фигурой, с кучерявой его, неразборчивой, головой), часа, кажется, в четыре… — тридцать? Нет, конечно, до настоящего утра, как она, он не досиживал никогда.
Агнес быстро рокировала слева от раскрытого лэптопа высокие сторожевые башни соли и оливкового масла, частенько ночевавшие у нее на письменном столе после экстренных ночных голодных пиров, — завоевала высоту — узкий, аистиный, в гладком железном подстаканнике, высокий ледяной прозрачный бокал с чаем — какого часа заварки теперь уж не вспомнишь — но, кажется, был декорацией к важной правке на 382-ой странице, пока был свеж и горяч; судорожно глотнула — всё, до дна — и поморщилась, силясь справиться с тошнотой, — всегда от чая утром немножко… но по крайней мере не кофе… а запах бергамота каким-то таинственным образом тоже визуально дымчато переливается в раздуваемые бытовыми запахами соседских кухонь и бойлеров кружащиеся выспренности туманной вспарины воздуха за окном… — и, крутанув на куроногом компьютерном кресле, теперь уже не таясь развернулась к окну, разглядывая запечатанную чернотой, как лишней черной пробойкой архаичной машинописной копирки, буквицу его окна напротив, — чего днем, разумеется, никогда не делала.
Ее многолетний труд, удивительная, удивительнейшая, живая, саму же Агнес по мере написания всё больше своей живостью и самодиктующей, самовыплёскивавшейся через ее посредничество реальностью удивлявшая, монография о жесткой языковой конкуренции на заре империи Ахеменидов — была почти дописана — то есть, работы, как рассчитала Агнес, оставалось еще всего-то полгода. Развалясь в кресле, расслабленно сгорбясь, уверенно считая, что имеет на это право по крайне мере в соседстве стандартов крайне расслабленно кружащей дымки, Агнес смотрела на черное его окно (на пустое, выключенное, дезактивированное временно окно этого незнакомого ей человека, вновь проработавшего вон там вот, на приличном от нее расстоянии, в доме через двор напротив, над какой-то загадочной своей, не известной ей, работой, в компьютере, всю ночь — а теперь вновь исчезнувшего) взглядом почти победителя. Победителя снисходительного, милостивого, могущего себе даже и фору дать конкурентам позволить — но знающего, что весь чудовищно тяжелый путь борьбы уже почти пройден, что победа уже в кулаке — и от этого знания — могущественно счастливейшего — так что объему даже в легких не хватает для счастливого вздоха — счастливейшего — тем счастьем, которое позволяет любить всё вокруг. И даже (вот уж вещь почти противоестественная!) — соседей. Крайне, причем, подозрительных, ох, подозрительных. Что бы там, у него, в компьютере ни было, Агнес прекрасно, задержав дыхание в легких от головокружительного наслаждения счастьем, отдавала себе отчет: небывалую, самородную, величину ее книги это не перепрыгнет.
В благоухающем душе Агнес лениво, распаренно, уже еле понимая, на каком она свете, чуть корректировала мизинцем на запотевшем стекле душевого задвинутого полукруглого защитного экрана витую загогулину буквы «мим» курсивом — вырисованную на экран налипшим ее же длиннющим черным вьющимся волосом — и опасливо вспенивала шампунем всю капну волос на макушке — в ужасе думая, что если еще несколько из них разбегутся по экрану — придется опять вносить правку.
На нижнем этаже (куда Агнес, еле угадывая мысками ковровые ступеньки, уже совсем засыпая на ходу, не веря, что хватит сил дойти, спускалась, как мумия, в белом махровом отрезе), в крошечной спальне, отворачивалось и глядело окно совсем не в ту сторону — не на дом напротив — а на сады вдоль двора, поверх них — и, на излёте взгляда, перед самым расцветающим, разбуженным, и удивительно гримасничающим с утра небом, утыкалось в загадочное крайне ветвистое дерево, названия которого Агнес не знала (а рассмотреть — за дальностью — никак никогда не могла), и на всякий случай называла его сикомором. Деревья только-только начали переходить от черной графики к робкой живописи, зачаточные листья, сложенные как скрюченные лапки голубей перед взлетом, еще не придавали свету своего оттенка на просвет; и когда расплавленное солнце выкатывало из-за левой, сахарной стены ее дома и метрономом застывало ровно позади дерева, всё дерево в себя вбирая, прямо перед Агнес слепяще-ярко разгорался золотой светофор.