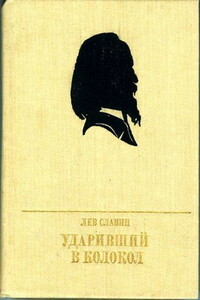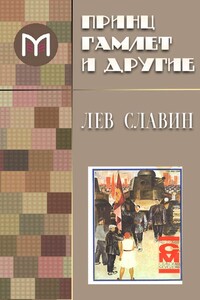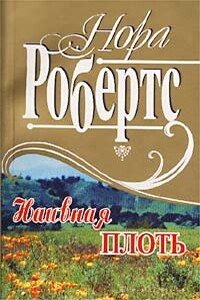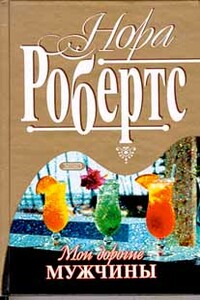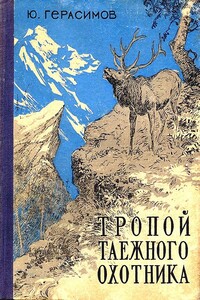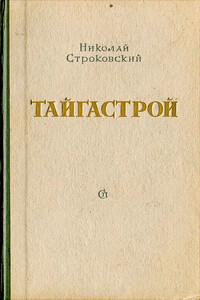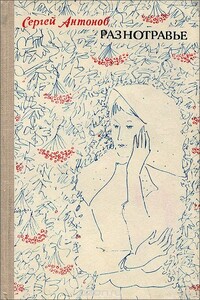Поручика Третьякова я узнал слишком поздно. Поручик плотен в талии. Кривоватые ноги его затянуты в щегольские лаковые сапожки. Есть в нем какая-то ненатуральная стройность, как будто он только притворяется стройным, а на самом деле вихлястый рассыпчатый человек.
То же притворство лежит на его лице. Есть лица, по которым узнаешь не только характер человека, но и события его жизни. Лицо поручика Третьякова открывает, что он начал кражей серебряных ложечек из маминого комода, был изгнан из четвертого класса гимназии за дурную болезнь, не допускался в семейные клубы за чрезмерное счастье в карточной игре. Взятки и спекуляции обозначаются на его лице с такой отчетливостью, что удивительно, как же не видят этого другие, особенно женщины, которые любят его много и самоотверженно.
Кроме того, поручик Третьяков носит на шашке кожаный темляк, значение которого мне объяснили товарищи, как только я вступил в полк. Случилось это в 1916 году, в третью зиму великой европейской войны. В августе призвали восемнадцатилетних.
Я получил от воинского начальника повестку, где было сказано, что «Сергею Николаевичу Иванову надлежит явиться 15 сего сентября в воинское присутствие для медицинского освидетельствования на предмет зачисления в ряды войск, согласно приказу его императорского величества…».
Дед мой, Израиль Абрамсон, у которого я тогда жил, чрезвычайно расстроился. У этого крепкого и вспыльчивого старика была натура нежная и паническая. Он боялся крови, похоронных процессий, выстрелов, открытого моря, сквозняков, женских слез, понедельников, он отвергал все это и жил в мире приятного, созданном его воображением. Но повестка воинского начальника лежала на столе, и старик не осмеливался прикоснуться к ней, к яду этих холодных слов.
Было решено, что возлюбленный сын его единственной дочери пойдет к доктору. Не может быть, чтобы дитя было здорово, чтобы в его небольшом теле не нашлось какого-нибудь недуга – сердечной болезни, или пупочной грыжи, или самого легкого смещения печени. А так как старик боялся докторов, со мной пошла бабушка моя Идес Абрамсон.
– Ребенок слаб, – сказала она, треща праздничным корсетом, – прошу вас, осмотрите хорошо его организм.
Доктор посмотрел на мою грудь гребца и попросил меня побегать вокруг стола. Я побежал, отставив локти и выкидывая колени, как учили меня в гимнастическом клубе «Турн-Феррейн». Я бежал, испытывая ту особенную летучую радость бега, какая знакома каждому легкоатлету. Доктор остановил меня движением стетоскопа.
Он выслушивал меня, настойчиво стуча согнутым пальцем по ребрам, как человек, которому долго не открывают двери. Он мял холодными пальцами мое обнаженное тело с упорством, от которого мне становилось стыдно. Он ползал по мне, искал болезнь, вызывал ее, как заклинатель, вверху, внизу и посередине.
– Смотрите хорошенько, доктор! – просила бабушка, всхлипывая. – Его покойная мать Сарра умерла от чахотки, у нее была гнилая кровь, моя кровь…
– Вы забываете, – сказал доктор, умывая руки, – что ваша дочь смешала свою кровь с кровью Николая Алексеевича Иванова, человека сильного, с превосходным аппетитом.
Он обменялся с бабушкой небрежным рукопожатием, вполне достаточным, впрочем, чтобы перехватить десятирублевую бумажку.
– Боже мой, – говорила старуха, когда мы возвращались домой, – как я скажу твоему дедушке, что ты совершенно здоров?…
Действительно, дедушка пришел в бешенство. Он не пошел в тот вечер в клуб «Торговцев и ремесленников» для своей обычной партии в стуколку, а все ходил по комнатам и громким голосом проклинал моего отца. Подлость этого человека, как видно, не имеет границ! Разве можно перечислить все обиды, которые перенес он, Израиль Абрамсон, от этого нищего дворянина? Бродяга, голоштанник, он выманил у Абрамсона деньги, увлек его дочь, обратил ее в православие, вогнал в могилу, сам застрелился и вот, точно мало ему, продолжает пакостить из могилы, передав сыну свою грубую натуру христианина!
Присев за письменный стол, старик в тот же вечер написал письмо моему другому деду, с отцовской стороны графу Шабельскому, который губернаторствовал в Пензе.
«Пусть Вам будет известно, – писал он почерком рондо, с которым обращался только к наиболее почтенным заказчикам, – пусть будет Вам известно, что Сереженьку призвали в армию. Между тем достаточно одной записки Вашего превосходительства, чтобы ребенка зачислили в зубоврачебную школу или в музыкальное училище, которые дают освобождение от военной службы. Жена моя Идее и я шлем привет Вашей почтенной супруге, ее сиятельству Марфе Егоровне».
Граф Шабельский ответил с поспешностью, которая растрогала всех:
«Печальная участь, грозящая сыну моего незабвенного Nikolas, наполняет меня ужасом. В нехороший час мы подняли оружие. Скажите Сергею, что ему там нечего делать. Сидеть в окопах и строчить, как швейка, из пулемета – это не дворянское занятие, дорогой Израиль Маркович! В расходах прошу вас не стесняться. Я бы и сам примчался к вам, если бы не то, что обожаемая моя супруга, графиня Марфенька, готова каждый день разрешиться от бремени. Преклонные годы мои сообщают этому событию характер почти научного открытия. При сем прилагаю письмо к полицмейстеру вашего города, капитану Садовскому. Обратитесь к нему: пройдоха Садовский непременно найдет способ вызволить Сережу. Графиня пожелала приписать несколько слов. Болезнь и волнения сделали нетвердой руку ее сиятельства».