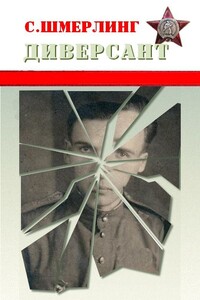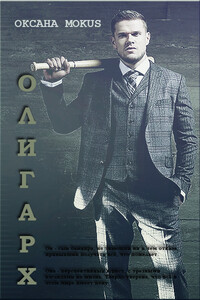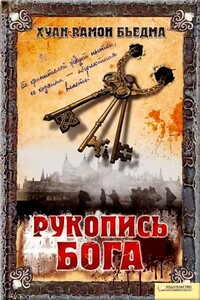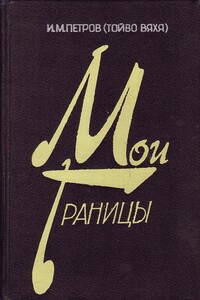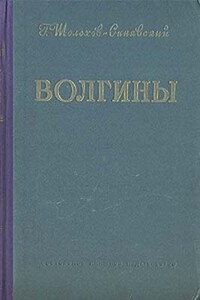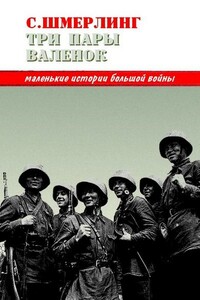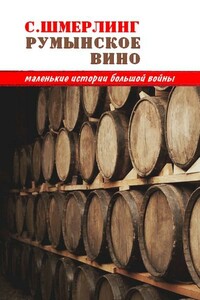То была ночь контрастов.
С наступлением темноты полк по наплавному мосту переправился на плацдарм. За плечами осталась черная, так и не застывшая в январе Висла. Только взялись за лопаты, как ударил немецкий артналет, за ним наша артподготовка. Земля дрожала от непрестанных орудийных выстрелов и разрывов. Кутаясь в обледеневшие плащ-палатки, батарейцы прижались к земле. Что тут поделаешь? Остается только ждать. Каждый терпел по-своему, одни в неизбывном напряжении, другие с фатальным безразличием. А дальномерщик Федор Голубовский даже заснул или сделал вид, что спит под грохот канонады.
Но вот пехота пробила брешь во вражеской обороне, в нее рванули танки, а мы, пушкари-зенитчики, за ними. Наступила пора коварных неожиданностей, непредсказуемых схваток. В густой морозной темноте, среди вспышек, высверков, наши дороги пересекались с отступающими, а то и бегущими из польской столицы немцами. Ожидание стычки, нервное напряжение не отпускали нас до самого мглистого рассвета. Тогда на душе стало полегче; округа худо-бедно просматривалась, можно было сориентироваться. Я спросил у обогнавшего нас на «виллисе» начштаба: «Где мы, товарищ майор?». Он ухмыльнулся: «Где-то за Варшавой», — и дал команду сделать остановку. Ко мне, комбату, подошли взводные, старшина, и мы стали держать совет. Прежде всего обнаружили, что стоим у околицы большого села. На столбике — указатель, что-то вроде «Ясенищи». Развернули «гармошку» склеенных топокарт, нашли этот населенный пункт. Заметили, что неподалеку шоссе Варшава — Берлин. «Ну вот, — сказал кто-то, — можно дуть до самого логова фашистского зверя». Это нас развеселило. Позубоскалили, и я распорядился:
— Осмотреть подступы к батарее.
— Ясно, — ответил за всех командир первого взвода и повторил незабываемую команду старшины Пилипенко: «Приглядывайтесь та прислуховывайтесь». Еще в сорок третьем под Понырями не стало мудрого старшины, а поговорка его жила. Бог весть, кто скрывается в польских хатах, а то и в стогах соломы…
Разошлись по двое. Я взял с собой, как обычно, сержанта Голубовского. Был он старше меня и биографию имел солиднее моей. Моя — с куриный нос: школа, училище военного времени, война, а он до фронта в своей станице проработал трактористом, водителем и был в батарее чистым сокровищем: при своей интеллигентной специальности дальномерщика, мгновенно определявшего расстояние до летящих «юнкерсов» и «мессеров», мог, коли понадобится, заменить орудийного номера и водителя тягача-«студебеккера». Стройный, высокий, в плечах, как говорится, косая сажень, быстр в решениях и действиях: настоящая военная косточка. Ему давно светило военное училище.
Командир полка предлагал. Но он отказывался: «У меня в станице дело есть. Разобраться надо. Да и матери с сестренкой помочь. Одни остались. Батю и брата… сничтожили…»
Федор шагал за моим правым плечом, карабин держал наизготовку; на поясе — трофейный «парабеллум» в расстегнутой кобуре. Мы прошли сотни четыре метров и постучали в дверь польской мазанки. Подумалось: вот тебе и центр Европы, а такая жалкая хатенка. Облезлая, съежившаяся, с потемневшей и поредевшей соломенной кровлей.
По военным меркам в Польше наш полк был давно. В летнем наступлении сорок четвертого вдоль Вислы подошли к восточному пригороду польской столицы — Праге, но так и не овладели ею: в Приваршавье стояли долго, готовились к новому броску. Вроде бы и «размовлять» с поляками научились. Они как могли налаживали свою жизнь, вовсю торговали бимбером, то есть самогоном, пирожками с картошкой, кабачком на шумных базарчиках. Там только и слышалось: «Что пан продаст? Что пан купит?». Освоили мы и несколько ходовых слов и фраз вроде «Проше, пане», «Вшистко едно».
К хатенке подошли с осторожностью, хотя ожидали встретить и страх, и покорность. Береженого Бог бережет. Я держал пистолет у самого бедра, памятуя о том, что «герман» бьет по вытянутой с оружием руке. От сильного стука сержанта дверь затряслась и быстро открылась. На пороге стоял пожилой поляк с морщинистым лицом и светло-голубыми, детскими глазами. Он сразу же отшагнул в сторону со словами: «Панове, панове» — и пропустил нас в единственную комнату своего жилища. Впрочем, был в ней закуток, отгороженный выцветшим пологом. Голубовский отодвинул его стволом карабина. Там на постели, под лоскутным одеялом лежала бледная молодая женщина, прижимая к себе маленького испуганного мальчугана. Голубовский улыбнулся им своей удивительной, прежде бы сказали обворожительной, улыбкой, на которую ответно улыбались первейшие красавицы Подваршавья. Он снял испуг хозяев и спросил:
— «Герман» есть?
Ответа не последовало. Странно, где же «Ниц, нема?».
— Что? Был и ушел? Или сховался? Почему молчишь?
На град жестких вопросов поляк не ответил, а повел себя более чем странно. Он подошел к стене, прижался к ней плечом и закивал головой, но совершенно необычно, не вперед, а в бок. Его редкая полуседая шевелюра касалась закопченной стены.
— Чтой-то он? — удивился я. — Спятил?
Тут действительно не мудрено и свихнуться. Я не раз слышал о трагических событиях в Варшаве: о восстании в еврейском гетто и общеваршавском восстании против гитлеровцев, о том, как отчаянно сражались и героически погибли тысячи и тысячи людей. Особенно запомнился рассказ переправившегося к нам через Вислу поляка о том, как безоружные горожане обливали себя бензином и живыми факелами кидались на жалюзи немецких танков. А мы? Мы тогда ничего не могли поделать. Стояли без горючего, без снарядов и — без приказа.