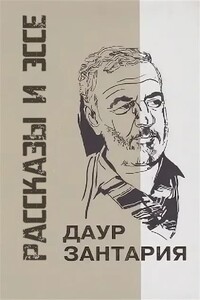Родичей семья Батала имела в каждом селе. И то, что при своеобразной ссылке Наалы выбор пал именно на эту соседнюю деревню, еще раз доказывало, что эта деревня была захолустьем, хотя лежала она по соседству с Хаттрипшем, хотя и по ней проходили железная дорога и автотрасса, а территория Обезьяньей Академии наполовину относилась к ней. Захолустье означает не оторванность от бела света, а отсутствие главного света, исходящего от Золотой Стопы. Жители этой замечательной деревни из поколения в поколение хранили и пестовали свою темноту с ревностью, с какой в иных местах хранят и пестуют цивилизацию. Выходцы из этой деревни, работавшие в Сухуме поэтами и кандидатами наук воспевали эту дикость и демонстрировали гостям ее первозданную красоту; она сохранилась только в нравах, но не в пейзаже, ибо мало первозданного в бесконечных чайных рядах и возвышающихся над ними однотипных двухэтажных домах — без единого висячего балкона! Зато составы товарняков целые и невредимые проходили через ту деревню, потому что жители, занятые выполнением соцобязательств, должны были хорошенько отсыпаться ночами, чтобы еще до появления утренней звезды с песней труда встать меж чайными рядами, и ни одна комиссия, ни один корреспондент из Сухума не могли застать их врасплох. Все, что присуще было абхазам в старину, деревня бережно хранила в богатом музее при Дворце культуры, который они-то и заставили воздвигнуть академика Массикота, по домам оставив только трудолюбие и столь редкое нынче умение удивляться самым обычным вещам. И телефонов было мало (они были установлены только в семьях представителей председателева клана), поэтому новости сообщались по старинке: умеют наши крестьяне, встав на холмах и перекликаясь зычными голосами, передавать информацию. Вскоре вся деревня узнала о том, что внучку Батала, которая, чтобы сбрить ей голову и выколоть ей глаза, осрамила на старости лет своего уважаемого деда, свела его в могилу, а родителей повергла в слезы и печаль, выскочив замуж без благословения за мингрельского неформала, неформала, неформала, — эту негодницу наконец сумели забрать у мужа, а мегрелы грозятся ночью приехать за ней на танках и что привезли ее к родичам, живущим около оврага за волчьим логовом, то есть в самом центре деревни, около правления.
Общественное мнение, хранимое женами, верными постылым мужьям, и девицами, целомудренными от невостребованности, привела в негодование эта весть. Пусть едут на танках хоть среди бела дня, мы девицу не отдадим! Эти люди были не только храбрецы. Эти люди, в отличие от древнегреческого мудреца, знали, что знают все.
И вот в одночасье новость перелетела через все овраги, рытвины и ложбины. И теперь каждая женщина деревни, желала она или не желала отрываться от сбора зеленого золота, а также от семейных дел, которые тоже у женщин оставались, должна была посетить эту семью у волчьего логова и выразить ей свое возмущение поступком Наалы. Глаза у женщин этой деревни служили зеркалами душ. В глазах их, узких горлышках души, отражалось содержимое: застоялая, тухлая тоска.
— Что она сделала, что она сделала! — считала своим долгом пробормотать каждая женщина, проходя мимо Наалы, но пряча при этом горлышко души.
Хозяйка благодарила соседок за то что пришли выразить сочувствие. Тут же неизменно подчеркивалось, что семья старца Батала, не заслуживала такого удара. И, уходя, женщины снова повторяли: «Что ты сделала!», но уже обращались к Наале. А то ведь неприлично обращаться сразу, пока не познакомились! Затем, по-прежнему пряча глаза, прикасались к ней кончиками натруженных пальцев. Они, конечно, сочувствовали ей, но это сочувствие надо была скрывать, как этого требовали обычаи: эта странная смесь колхозного устава, навыков, полученных от общения с многочисленными почетными гостями председателева клана, а также веры в светлое будущее.
Наала сидела у окна и глядела на дикую хурму у края волчьего оврага.
Каждый раз она вздрагивала и холодела от прикосновения этих пальцев.
Спрятаться, уединиться ей было негде, потому что в осеннюю стужу вся семья собиралась у камина в отдельной пристройке, а двухэтажный дом стоял, пустой и стылый, в ожидании дорогих гостей. Облетевшая осенняя хурма, прозрачная и изящная, как на японских рисунках, только и утешала взгляд девушки.
Склон, изуродованный чаем, эта нежная хурма, а за ними — даль, и только даль, которая сейчас не радовала девичьего взгляда. Где найти слово, которое способно было бы выразить ее тоску? Я не найду такого слова! На склоне появился всадник. Он как-то враз очутился на косогоре, как унылый призрак. Это был отважный бригадир из села Хаттрипш. Неужели и он — сюда? Да, он был именно сюда! Бригадир не только объяснил хозяевам, что поступок Наалы — свидетельство непокорности молодежи, но подчеркнул, что он его отчасти понимает, поскольку сердцу не прикажешь, как остроумно было написано в прекрасной газете «Аргументы и факты», и, ища поддержки у Наалы как у образованной девушки, встретился с ней взглядом, но что-то ему не понравилось, ибо он добавил: — Но почтенный Батал был просветленным старцем! Наала приняла решение.