Золотое колесо - [42]
У барона глаза проделали то, что они проделывали в минуты крайнего удивления или восторга: повылезли на лоб. Дел де марел три года, у него будет собственный телефон! Окареют все, когда узнают! Вот уж чего цыгану не купить ни за какие деньги! Собственный телефон с собственным номером. Алло, это квартира Мануша-Саструно? Какая на кар квартира! — собственный дом Бомборы, сына Кукуны Мануша-Саструно! Это ему обещает сам известный Лагустанович, который, между прочим, денег не берет, но слов на ветер не бросает.
Лагустанович видел, увы, бурю в душе цыгана. Не желая, чтобы Бомбора суетливо рассыпался в благодарностях, он опередил его вопросом:
— Я слыхал, что твоя сестра вышла замуж?
— Да! Да! — соскользнул барон на край дивана. — За абхаза вышла, между прочим, чистокровного!
— В любой нации есть плохие и есть хорошие. Лишь бы человек был порядочным. — Лагустанович встал и протянул сердечно руку туда, где оказалась бы рука посетителя, если бы он тоже встал, что барон проделал с опозданием. Пожав цыгану руку, начальник заглянул ему в глаза и сердечно улыбнулся — картина, которую Бомбора Кукунович обещал себе запомнить на всю жизнь.
— А преступной деятельностью он уже не занимается? — мягко спросил начальник.
— Нет! Нет! — Бомбора бы задергался, если бы рука не лежала в руке начальника. — Совсем уже не занимается. Цеха кнокает! — воскликнул он восторженно.
— Что он делает с цехами? — Начальник то ли не понял, то ли закидывал удочку.
Лагустанович спрашивал, не продолжает ли зять лихую жизнь, полную страстей и томлений в казенном доме, что могло сделать девушку несчастной. А Бомбора, который, так и есть, не чета отцу, — перепугался, не сболтнул ли лишнего о цехах. Эти два недоразумения слились, как барбарисовый перегар и запах мужественного одеколона. Но Лагустанович, напрасно ища взгляд бегающих глаз брата, выправил положение, снова вернув цыгана к ликующей мысли о телефоне.
— На днях тебе поставят телефон. С него ты и позвонишь моей секретарше. Зовут ее Джозефина. Позвонишь и скажешь, всё ли жэковцы сделали, как мы распорядились, — сказал начальник как брат родной и похлопал гостя по плечу.
Цыган вылетел и из кабинета, и из приемной, и из присутствия «как шампанская пробка» — так он рассказывал потом там, где считал нужным.
Только на улице он пришел в себя и окончательно удостоверился, что произошло все это с ним наяву, а не приснилось спьяну. Тут он вспомнил, что даже «спасибо» начальнику не сказал. «Передам через секретаршу по собственному телефону», — успокоил он себя.
Он шел по улице как хмельной, но именно «как». Весь торчок сошел, надо было догнаться, потому что голова была до звона ясна. Он понимал, что все эти инженеры и рабочие ему на кар не нужны, потому что на кару видел их кляузы, и к тому же цыгану, да еще раскрученному, да еще барону, кар кто простил бы халяву. Зашел-то он к начальнику потому, что надо было показать и своим, и в городе, что барон может и к Лагустановичу зайти, ногой дверь открыв, и дело сделать. Это необходимо было ему для авторитета, который ему давался всегда с трудом, тогда как отцу-баламуту все было просто. Но телефон! И еще ему было непонятно, чем был вызван такой сердечный прием у начальника, что даже телефон…
Бомбора ничего не понимал, что еще раз свидетельствовало, что он, нося в ухе наследственную серьгу отца своего Кукуны Мануша-Саструно, уступал ему не только в уме, но и в цыганской проницательности.
— Хала, где ты, Бомбора, ха! — радостно заголосили уларки на проспекте Мира, вместо того чтобы затрепетать при виде своего барона. Рассеянно и отрешенно послав их на кар, Бамбара Кукунович направился в купатную, где первым делом хлопнул двести граммов «российской».
Потом приник к стойке, давая зелью разлиться по организму.
Зелье разошлось по телу, и на мозги сошел желанный туман. Барон вспомнил детство, когда его отец вел табор к Хвосту Земли. Вспомнил маленького гаджио; как этот гаджио запустил в черного кота, пытавшегося перебежать дорогу табору, серпом и молотом. Глаза барона Бомборы уже не выскочили на лоб, а вылетели аж на метр из орбит, подобно шарикам на резинках, которыми торговали его женщины-уларки. Перед ним стоял взгляд начальника, когда тот, как простой человек, подавал ему, цыгану, руку. Барон увидел детство, белого гаджио, с которым в этом самом детстве, сделав надрезы на руках и соединив их, они слили свои разные крови. И поклялись быть братьями по гроб жизни.
Только сейчас цыган понял, что начальник был тот самый гаджио! Но Бомбора при этом не мог не помнить и того, что сам он был и остается цыганом, и решил, что разумнее будет для него об этом братании помалкивать.
Далеко ли до Хвоста Земли?!
О крае земли
Ну, раз барон решил помалкивать, то на этом должна закончиться зарисовка обычного цыгана без гитар и коней. Но при этом многое остается неясным, и надо вернуться к первоначальному месту действия, а не шататься за персонажем по купатным и кебабным, как это принято у современных авторов. Наберись терпения, читатель! Итак, хорошенькая секретарша Джозефина, едва успев проводить взглядом цыгана, когда тот, как ошпаренный, вылетел из кабинета, правильно заключила, что не мог посетитель удалиться таким окрыленным и не оставить самого начальника хотя бы в благодушном настроении. Она встала и подобралась.

Прелестна была единственная сестра владетеля Абхазии Ахмуд-бея, и брак с ней крепко привязал к Абхазии Маршана Химкорасу, князя Дальского. Но прелестная Енджи-ханум с первого дня была чрезвычайно расстроена отношениями с супругом и чувствовала, что ни у кого из окружавших не лежала к ней душа.
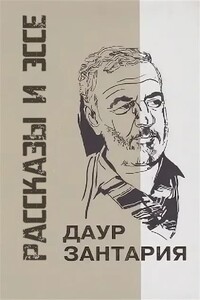
В сборник рассказов и эссе известного абхазского писателя Даура Зантарии (1953–2001) вошли произведения, опубликованные как в сети, так и в книге «Колхидский странник» (2002). Составление — Абхазская интернет-библиотека: http://apsnyteka.org/.

«Чу-Якуб отличился в бою. Слепцы сложили о нем песню. Старейшины поговаривали о возведении его рода в дворянство. …Но весь народ знал, что его славе завидовали и против него затаили вражду».

Изучая палеолитическую стоянку в горах Абхазии, ученые и местные жители делают неожиданное открытие — помимо древних орудий они обнаруживают настоящих живых неандертальцев (скорее кроманьонцев). Сканировано Абхазской интернет-библиотекой http://apsnyteka.org/.

Они молоды и красивы. Они - сводные сестры. Одна избалованна и самоуверенна, другая наивна и скрытна. Одна привыкла к роскоши и комфорту, другая выросла в провинции в бедной семье. На короткий миг судьба свела их, дав шанс стать близкими людьми. Но короткой размолвки оказалось довольно, чтобы между ними легла пропасть...В кн. также: «Директория С., или "Ариадна " в поисках страсти, славы и сытости».
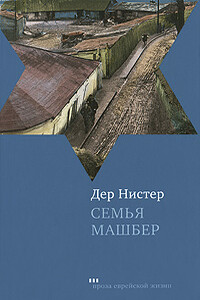
От издателяРоман «Семья Машбер» написан в традиции литературной эпопеи. Дер Нистер прослеживает судьбу большой семьи, вплетая нить повествования в исторический контекст. Это дает писателю возможность рассказать о жизни самых разных слоев общества — от нищих и голодных бродяг до крупных банкиров и предпринимателей, от ремесленников до хитрых ростовщиков, от тюремных заключенных до хасидов. Непростые, изломанные судьбы персонажей романа — трагический отзвук сложного исторического периода, в котором укоренен творческий путь Дер Нистера.
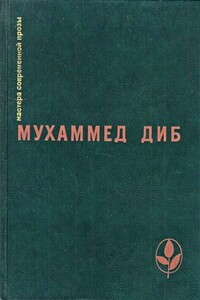
Мухаммед Диб — крупнейший современный алжирский писатель, автор многих романов и новелл, получивших широкое международное признание.В романах «Кто помнит о море», «Пляска смерти», «Бог в стране варваров», «Повелитель охоты», автор затрагивает острые проблемы современной жизни как в странах, освободившихся от колониализма, так и в странах капиталистического Запада.
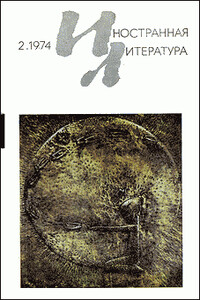
ОЛЛИ (ВЯЙНО АЛЬБЕРТ НУОРТЕВА) — OLLI (VAJNO ALBERT NUORTEVA) (1889–1967).Финский писатель. Имя Олли широко известно в Скандинавских странах как автора многочисленных коротких рассказов, фельетонов и юморесок. Был редактором ряда газет и периодических изданий, составителем сборников пьес и фельетонов. В 1960 г. ему присуждена почетная премия Финского культурного фонда.Публикуемый рассказ взят из первого тома избранных произведений Олли («Valitut Tekoset». Helsinki, Otava, 1964).

Ф. Дюрренматт — классик швейцарской литературы (род. В 1921 г.), выдающийся художник слова, один из крупнейших драматургов XX века. Его комедии и детективные романы известны широкому кругу советских читателей.В своих романах, повестях и рассказах он тяготеет к притчево-философскому осмыслению мира, к беспощадно точному анализу его состояния.

Памфлет раскрывает одну из запретных страниц жизни советской молодежной суперэлиты — студентов Института международных отношений. Герой памфлета проходит путь от невинного лукавства — через ловушки институтской политической жандармерии — до полной потери моральных критериев… Автор рисует теневые стороны жизни советских дипломатов, посольских колоний, спекуляцию, склоки, интриги, доносы. Развенчивает миф о социальной справедливости в СССР и равенстве перед законом. Разоблачает лицемерие, коррупцию и двойную мораль в высших эшелонах партгосаппарата.
