Жернова. 1918–1953. После урагана - [5]
— Да, товарищ Сталин, такие факты имеют место. Мой заместитель генерал Серов занимается этими вопросами, но возможности его простираются только на нашу зону ответственности.
— Очень плохо, товарищ Жюков, что вы прячетесь за спину генерала Серова. Нам кажется, что вы несколько переутомились. Как у вас со здоровьем?
— Есть некоторые проблемы, товарищ Сталин. И отдохнуть, конечно, не мешало бы.
— Оставьте за себя Соколовского и приезжайте в Москву.
И Жуков, вздохнув с облегчением, покинул Берлин, стараясь не думать, что ожидает его в Москве.
Глава 3
В конце февраля сорок шестого, как раз на день Советской армии, на нашем этаже поселился немец. Самый настоящий — из военнопленных. Об этом мы все узнали от мамы, когда собирались ужинать. Она сказала, раскладывая по тарелкам пшенную кашу, сваренную на американском порошковом молоке:
— Представляете, к нам подселили фрица.
— Какого еще фрица? — спросил папа и хмуро посмотрел на меня, точно это я откопал где-то какого-то фрица и поселил его на нашем этаже.
— Я не знаю, как его зовут, — сказала мама. — Маленький такой, плешивый. И очень вежливый.
— А-а, — сказал папа. — Это, наверно, Франц Дитерикс. Он из вольных. О нем еще в газете писали…
— А-а, — сказал я, вспомнив, что, да, писали о каком-то фрице, который очень хорошо работает на восстановлении литейно-механического, где работает папа. — Это тот самый фриц, который внес большой вклад, — пояснил я маме, думая, что вклад — это деньги. Вот только откуда у фрица деньги, сказать не мог, а спрашивать у папы не решился: папа не любит вопросов и последнее время всегда хмурый. И часто ссорится с мамой.
Сегодняшний вечер один из тех редких вечеров, когда папа дома и никуда не идет. Обычно он приходит с работы, моется под душем, одевает свое новое кожаное пальто, начищенное яичным белком до невозможного блеска, так что начинает походить на очень черного жука, и уходит… по делам, как говорит он маме. Я почти не слышу, когда он возвращается, потому что сплю. А если не сплю или просыпаюсь, то слышу, как папа тяжело ходит, пыхтит, как мама что-то говорит ему сердито, потом они в своей комнате ругаются, а мама плачет. Последнее время папа все время возвращается со своих дел обязательно пьяным. Маму мне ужасно как жалко, да только я не знаю, чем ей помочь.
А сегодня, удивительное дело, папа никуда не идет. Более того, он решил проверить, как я учусь, потому что мама — я это слышал собственными ушами — жаловалась ему, что я учусь плохо и вообще отбиваюсь от рук, превращаюсь в настоящего хулигана и прихожу домой весь в синяках и ссадинах.
— Так, — говорит папа, усаживаясь за прибранный после ужина стол и беря в руки мой дневник, в котором полно «поср.» и даже встречаются «неуды». — Это что? — тычет он прокуренным желтым пальцем в «неуд», тщательно выведенный учительницей по украинской мове, да еще красными чернилами.
Вообще-то на такой вопрос отвечать даже как-то и неловко: смотрит человек в дневник, видит «неуд» и спрашивает, что это такое.
— «Неуд», — говорю я и пожимаю плечами, чтобы папа видел, как мне за него неловко.
— А это? — тычет он в ту же страницу, где тоже красуется неуд, но уже по арифметике. — Ты что, не знаешь, сколько будет два плюс два? Я в твои годы…
И дальше папа рассказывает, как он в мои годы хотел получить образование, каких невообразимых трудов это ему стоило, что он всю жизнь мечтал стать инженером, но не получилось, потому что время было такое… такое, что… а теперь он мечтает, чтобы его сын стал инженером, потому что время совсем другое, а сын ни черта не хочет учиться, балбесничает, зря ест папин хлеб, который так тяжело ему, папе, достается, дерется с мальчишками, бегает по развалинам, взрывает там всякую гадость, может на всю жизнь остаться без рук или ног, без глаз или еще без чего-нибудь полезного, и вообще занимается черт знает чем, только не учебой.
— Я занимаюсь, — говорю я папе и, отвернувшись, смотрю в угол.
— Смотри на меня, — сердито говорит папа.
Я поворачиваю голову и смотрю на него: папа как папа, ничего особенного. Разве что очень сердитый. Наверное, потому, что у него сегодня никаких дел нет и не надо надевать свое любимое кожаное пальто.
А папа, посмотрев, как я смотрю на него, велит принести тетрадки и начинает проверять домашние задания. Он листает одну тетрадку за другой, натыкается на новые неуды, хмурится.
— Драть тебя надо, — сказал он, закончив проверку тетрадей. — Драть как сидорову козу. Чтобы неделю на задницу сесть не мог. И я таки до тебя доберусь, так и знай, — заключает папа свое со мной занятие и уходит на кухню покурить, а я вспоминаю, как он когда-то, еще на Урале, драл меня веревкой, которой привязывают лошадей во время ковки. И вздыхаю: веревка — это совсем другое.
— Ведь как хорошо учился на Урале, — почти одновременно со мной вздыхает мама, присутствовавшая при занятиях со мной папы, а Людмилка показала мне язык, хотя сама учится еще хуже. — Учительница нахвалиться не могла, — продолжает мама, — лучший ученик, похвальные грамоты, книжки. А тут ребенка как будто подменили. Ты бы маму пожалел, сынок. Мама-то все для тебя делает, старается. И папа тоже: все на работе и на работе.

«Настенные часы пробили двенадцать раз, когда Алексей Максимович Горький закончил очередной абзац в рукописи второй части своего романа «Жизнь Клима Самгина», — теперь-то он точно знал, что это будет не просто роман, а исторический роман-эпопея…».
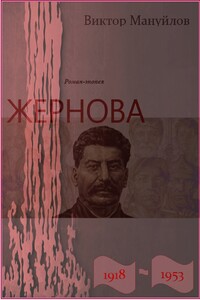
«Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением. Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей.
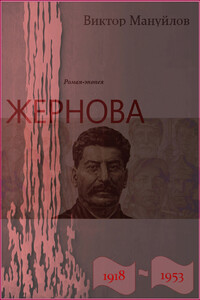
"Шестого ноября 1932 года Сталин, сразу же после традиционного торжественного заседания в Доме Союзов, посвященного пятнадцатой годовщине Октября, посмотрел лишь несколько номеров праздничного концерта и где-то посредине песни про соколов ясных, из которых «один сокол — Ленин, другой сокол — Сталин», тихонько покинул свою ложу и, не заезжая в Кремль, отправился на дачу в Зубалово…".

«Молодой человек высокого роста, с весьма привлекательным, но изнеженным и даже несколько порочным лицом, стоял у ограды Летнего сада и жадно курил тонкую папироску. На нем лоснилась кожаная куртка военного покроя, зеленые — цвета лопуха — английские бриджи обтягивали ягодицы, высокие офицерские сапоги, начищенные до блеска, и фуражка с черным артиллерийским околышем, надвинутая на глаза, — все это говорило о рискованном желании выделиться из общей серой массы и готовности постоять за себя…».

«Все последние дни с границы шли сообщения, одно тревожнее другого, однако командующий Белорусским особым военным округом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов, следуя инструкциям Генштаба и наркомата обороны, всячески препятствовал любой инициативе командиров армий, корпусов и дивизий, расквартированных вблизи границы, принимать какие бы то ни было меры, направленные к приведению войск в боевую готовность. И хотя сердце щемило, и умом он понимал, что все это не к добру, более всего Павлов боялся, что любое его отступление от приказов сверху может быть расценено как провокация и желание сорвать процесс мирных отношений с Германией.
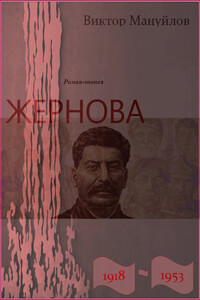
«…Яков Саулович улыбнулся своим воспоминаниям улыбкой трехлетнего ребенка и ласково посмотрел в лицо Григорию Евсеевичу. Он не мог смотреть на Зиновьева неласково, потому что этот надутый и высокомерный тип, власть которого над людьми когда-то казалась незыблемой и безграничной, умудрился эту власть растерять и впасть в полнейшее ничтожество. Его главной ошибкой, а лучше сказать — преступлением, было то, что он не распространил красный террор во времени и пространстве, ограничившись несколькими сотнями представителей некогда высшего петербургского общества.
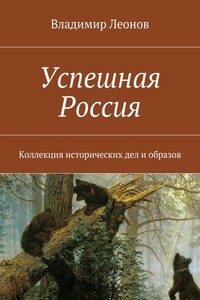
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
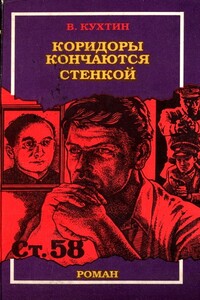
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
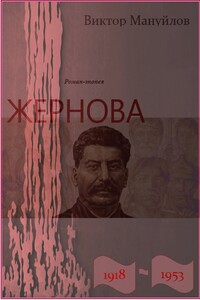
«По понтонному мосту через небольшую речку Вопь переправлялась кавалерийская дивизия. Эскадроны на рысях с дробным топотом проносились с левого берега на правый, сворачивали в сторону и пропадали среди деревьев. Вслед за всадниками запряженные цугом лошади, храпя и роняя пену, вскачь тащили пушки. Ездовые нахлестывали лошадей, орали, а сверху, срываясь в пике, заходила, вытянувшись в нитку, стая „юнкерсов“. С левого берега по ним из зарослей ивняка били всего две 37-миллиметровые зенитки. Дергались тонкие стволы, выплевывая язычки пламени и белый дым.
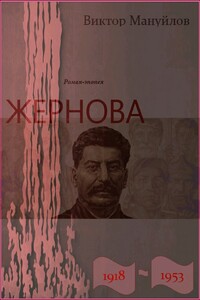
«…Тридцать седьмой год начался снегопадом. Снег шел — с небольшими перерывами — почти два месяца, завалил улицы, дома, дороги, поля и леса. Метели и бураны в иных местах останавливали поезда. На расчистку дорог бросали армию и население. За январь и февраль почти ни одного солнечного дня. На московских улицах из-за сугробов не видно прохожих, разве что шапка маячит какого-нибудь особенно рослого гражданина. Со страхом ждали ранней весны и большого половодья. Не только крестьяне. Горожане, еще не забывшие деревенских примет, задирали вверх головы и, следя за низко ползущими облаками, пытались предсказывать будущий урожай и даже возможные изменения в жизни страны…».
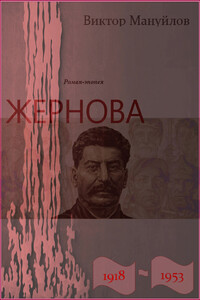
"Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость. И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе.

В Сталинграде третий месяц не прекращались ожесточенные бои. Защитники города под сильным нажимом противника медленно пятились к Волге. К началу ноября они занимали лишь узкую береговую линию, местами едва превышающую двести метров. Да и та была разорвана на несколько изолированных друг от друга островков…