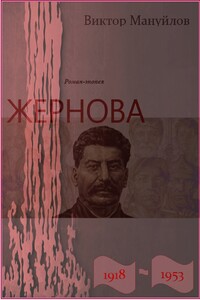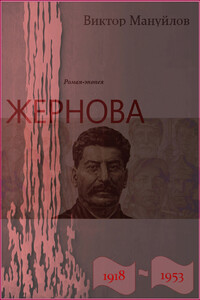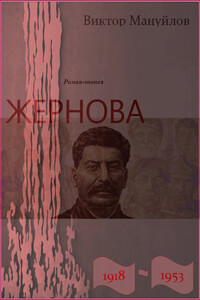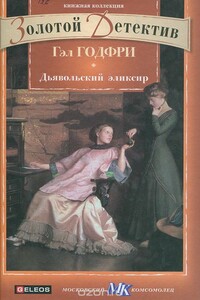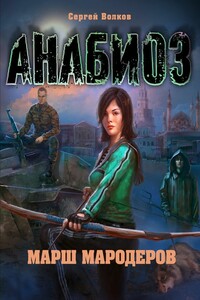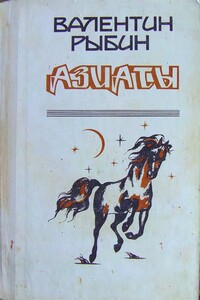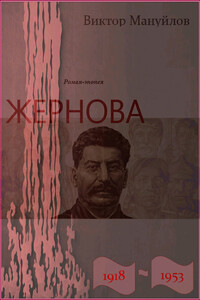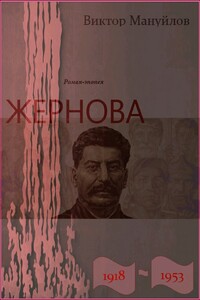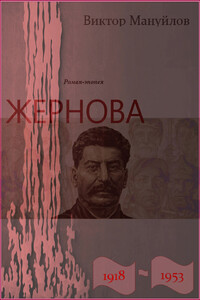Александр Возницын отложил в сторону кисть и устало разогнул спину. За последние годы он несколько погрузнел, когда-то густые волосы превратились в легкие белые кудельки, обрамляющие обширную лысину. Пожалуй, только руки остались прежними: широкие ладони с длинными крепкими и очень чуткими пальцами торчали из потертых рукавов вельветовой куртки и жили как бы отдельной от их хозяина жизнью, да глаза светились той же проницательностью и детским удивлением.
Мастерская, завещанная ему художником Новиковым, уцелевшая в годы войны, была перепланирована и уменьшена, отдав часть площади двум комнатам для детей. Теперь для работы оставалось небольшое пространство возле одного из двух венецианских окон, второе отошло к жилым помещениям. Но Александр не жаловался: другие и этого не имеют.
Потирая обеими руками поясницу, он отошел от холста. С огромного полотна на Александра смотрели десятка полтора людей, смотрели с той неумолимой требовательностью и надеждой, с какой смотрят на человека, от которого зависит не только их благополучие, но и жизнь. Это были блокадники, с испитыми лицами и тощими телами, одетые бог знает во что, в основном женщины и дети, старики и старухи, пришедшие к Неве за водой. За их спинами виднелась темная глыба Исаакия, задернутая морозной дымкой, вздыбленная статуя Петра Первого, обложенная мешками с песком; угол Адмиралтейства казался куском грязноватого льда, а перед всем этим тянулись изломанные тени проходящего строя бойцов, – одни только длинные косые тени, отбрасываемые тусклым светом заходящего солнца.
Картина, скованная морозом и сосредоточенным молчанием людей, была настолько жуткая, что Александру порой казалось, что он рисовал это с натуры, что он знал поименно этих людей, оживших на его полотне, что никуда не уезжал из города, голодал и умирал вместе с ними. А еще в нем крепла уверенность, что эта обнаженная правда ушедшего времени, пугающая его самого, еще больше может испугать тех, от кого зависит, увидит это полотно зрителя, или нет.
Он работал над этим полотном больше двух лет, и сейчас, когда картина была закончена, не мог с точностью сказать, что же он хотел ею выразить. Блокаду? Да, конечно. Трагедию людей, гибнущих от голода и холода, от бомбежек и артобстрелов? Да, и это тоже. Но не это самое главное. Главное заключалось в чем-то другом, и это что-то не давалось назваться каким-то определенным именем, оно вмещало в себя слишком много – даже больше, чем война, выходя за рамки картины, распространяясь во все стороны в неохватные глазом дали…
Глухо хлопнула входная дверь, деревянные ступени лестницы весело откликнулись на топот детских ног. Звонко стукнула еще одна дверь, на сей раз коридорная, и стало слышно, как шумят и возятся возвратившиеся из школы дети, как жена выговаривает им за это: папе работать мешать нельзя.
Александр улыбнулся, опустился в глубокое кресло. Он чувствовал себя безмерно уставшим, но досаждала ему не усталость, а странное ощущение незавершенности работы, и он снова и снова вглядывался в картину, пытаясь понять, в чем же эта незавершенность заключается. В том, что он не изобразил шагающих по улице бойцов? Но в одном из вариантов он их изобразил и поразился тому, насколько эти бойцы отличаются от жителей блокадного города. Получалось, что эти изможденные голодом люди смотрят на бойцов не столько с надеждой, сколько с удивлением: вот ведь, оказывается, есть в этом городе сытые, сильные, способные так свободно двигаться, таким ровным и ничем не стесненным шагом. В их взглядах не было зависти, зато обреченность сквозила во всем. Поэтому Александр и убрал шагающих бойцов, оставив одни лишь их тени. И картина даже выиграла от этого: исчезла обреченность, засветилась надежда. Но что-то существенное осталось недосказанным. И Александр, отрешившись от полотна и вернувшись к реальности, думал теперь, что все дело в том, что сам-то он блокаду не переживал, не голодал вместе со всеми, не испытал тех чувств, которые испытали нарисованные им люди. Так что же получается – два года напрасного труда? Или ему только кажется, что в картине чего-то не хватает? Наверное, так оно и есть. Надо отвлечься от нее, поставить лицом к стене и заняться новой работой. Но картина держала его и не отпускала.
Дверь в мастерскую тихонько отворилась, и Александр услыхал тихие и робкие шаги своей девятилетней дочери. Вот она подошла и остановилась сзади, не решаясь нарушить его молчание.
– Тебе чего, Аленушка? – спросил Александр.
– Мама зовет обедать, – шепотом ответила дочь.
– Иди ко мне, – протянул он ей руку.
Девочка приблизилась и встала рядом. Она поразительно была похожа на него, своего отца, и Александр всегда с некоторым удивлением вглядывался в ее черты. Дочь вложила в его руку свою ладошку, он поставил ее напротив, спросил:
– Как дела в школе, малыш?
– Хорошо, папочка. Я получила пять по арифметике и четыре по рисованию. – И пояснила: – У меня никак не получается лошадка.
– Ничего, малыш, подрастешь – получится. Да и четверка тоже хорошая оценка. Я вот картину нарисовал и боюсь, что на троечку.