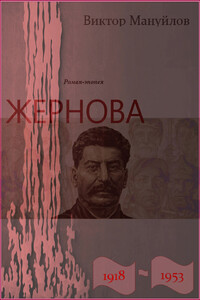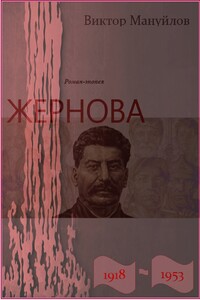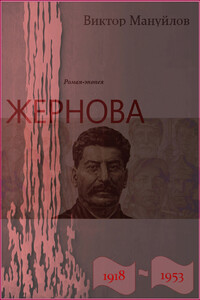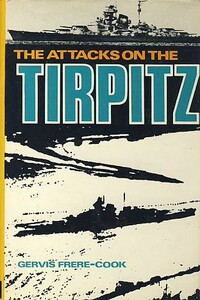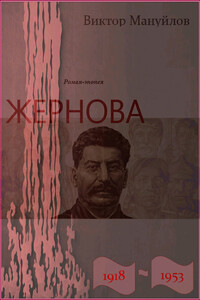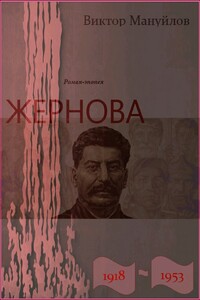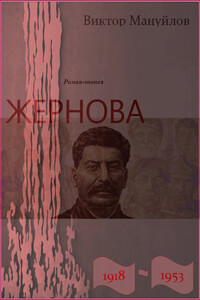Снаружи ударили в рельс, и если бы люди не ждали этого сигнала, они бы его и не расслышали: настолько он был тих и лишен всяких полутонов, будто, продираясь по узкому штреку, ободрал бока об острые выступы и сосульки, осип от холода вечной мерзлоты, или там, снаружи, били не в звонкое железо, а кость о кость.
И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе. Разогнувшись и освободившись от ненужного, люди потянулись к выходу из забоя.
Ближе всех к выходу из штрека на погрузке тачек работал бригадир, Плошкин Сидор Силыч, кряжистый мужик лет сорока пяти, из рязанских крестьян, получивший десять лет за то, что не пустил к себе на постой уполномоченного по хлебозаготовкам, а по обвинительному заключению Тройки — за попытку срыва этих самых хлебозаготовок и контрреволюционный заговор. Плошкин по своей должности обязан выходить из забоя последним, чтобы там никого из бригады не осталось, поэтому он, опершись на лопату обеими руками, пропускал мимо себя своих людей и пересчитывал их, шевеля губами.
Когда мимо по талой воде прошлепал последний, десятый зэк, Плошкин снял с обледенелого уступа светильник, сделанный из консервных банок, задул два из четырех рожков и поплелся к выходу. Он переставлял ноги в резиновых сапогах, не чувствуя отмороженных еще зимой подошв и делал в уме несложные арифметические подсчеты, на кого из членов бригады записать выполнение и перевыполнение дневного плана выработки, а на кого не писать ничего.
Бригада все равно план выполнить не в состоянии, в этом случае каждый получит штрафной паек — триста граммов хлеба, на двести граммов меньше нормы. Триста на четырнадцать — четыре кило двести. Если же разбросать отгруженные кубы породы на половину бригады, то у этой половины образуется перевыполнение, липовые ударники получат по килограмму хлеба, ибо — как считает нонешняя власть — кто хорошо работает, тот хорошо и ест, да плюс премиальных триста — в сумме почти двенадцать килограммов; стало быть, каждому достанется почти по девятьсот граммов. За ту же самую работу.
Мучения для Плошкина заключались в том, чтобы не обмишуриться в расчетах: на восемь или девять человек записывать план бригады, и не вызвать тем самым гнев десятника и прораба, которые могут всю его арифметику повернуть по-своему.
Разумеется, и десятник и прораб знают, как создаются ударники, но с них спрашивают за план целиком, с них спрашивают тонны и кубометры, сами они тоже требуют с бригадиров тонны и кубометры, однако понимают, что если зэка не кормить, то не получишь ничего, поэтому грамотно сделанную подтасовку примут, а за неграмотную могут дать в рожу. Только бы не обмишуриться.
Ссохшийся от недоедания, усталости и авитаминоза мозг Плошкина с трудом переваривал количество вывезенных на гора тачек, переводя их в кубометры, а кубометры деля на членов бригады. Вроде и опыт у него в этом деле большой, а вот поди ж ты, каждый раз будто впервой приходится считать и прикидывать, чтобы вышло похоже на правду.
Плошкин еще не решил свою мудреную задачу, хотя до выхода оставалось всего метров сорок-пятьдесят, когда впереди раздался короткий и отчаянный вскрик, вслед за ним послышался как бы тяжелый вздох огромного чудища, земля судорожно дрогнула под ногами, в лицо пахнуло промозглым холодом, с рожка светильников сорвало трепетные язычки пламени, и будто наступил конец света — все погрузилось в плотный, давящий мрак.
Плошкин замер на мгновение, с трудом отвлекаясь от своих расчетов, затем, процедив сквозь сознание крики людей, шедших впереди, связав их с тяжелым вздохом, судорожной дрожью земли и погасшим светильником, непроизвольно попятился, поскользнулся на осклизлом трапе, упал, ударился о камни затылком, дернулся было, чтобы вскочить на ноги, но вдруг ощутил такое безразличие к самому себе, к жизни и смерти, что с каким-то незнакомым блаженством вытянулся на холодных и мокрых камнях и стал ждать, что вот сейчас рухнут своды штрека и кончатся для него все мучения: не надо будет никуда идти, дрожать от холода, терпеть боль в натруженном за четырнадцать часов работы теле, трястись над каждой крошкой хлеба, бояться охранников, блатных, прораба — всех, кто сильнее тебя физически или у кого больше власти.
Плошкин лежал на спине и читал отходную: "Боже святый, великий и благий, приими раба своего во царствие твое и прости ему прегрешения его, вольныя и невольныя, как прощал ты врагам своим, и хулителям, и…"
Плошкин сбился, потому что впереди снова закричали, и он услыхал, что зовут его, Плошкина, бригадира, и громче всех — Пакус, интеллигент, доходяга, жид, из бывших чекистов-гэпэушников, настоящий враг народа, то есть троцкист и предатель.
Перекрестившись еще раз, Плошкин медленно поднялся на ноги, с сожалением пошлепал себя ладонью по промокшим, пока он лежал и ждал смерти, ватным штанам и стал шарить меж кусками породы в поисках выскочившего из рук при падении светильника.