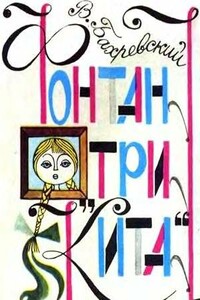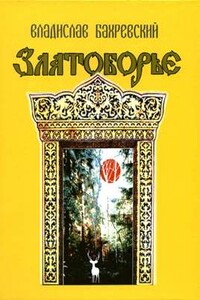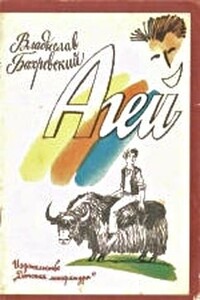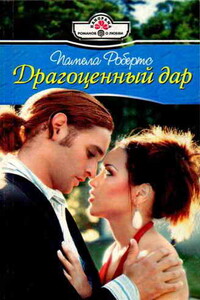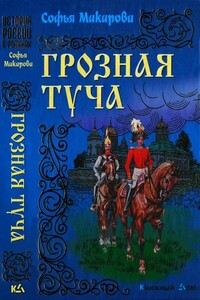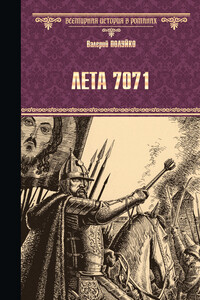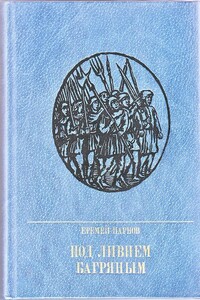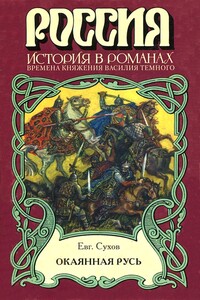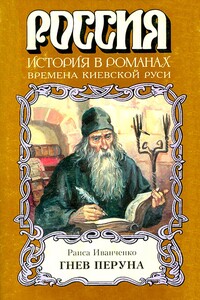По левую руку степь — белого света стена, и по правую руку — даль земная, высота поднебесная. А покоя нет. Ломят днище волны, будто по камням скаканье — ретивая река под дощаником[1].
— Ермак до Иртыша, а протопоп с протопопицей, с малыми ребятами — аж до Нерчи{1}!
— Притихни, батька! — всполошилась Анастасия Марковна. — Не страшно ли так говорить?
Аввакум поскрёб голову.
— О вёрстах, что позади, не страшно. Про те, что впереди, — сердце у меня под замком.
— Греховодники мы с тобою, батька! — вздохнула протопопица. — Как дымком потянет, так и встрепенусь: не русской ли избою пахнет?
— До русских дымов — на солнце нажаримся, на морозе нахолодуемся. Но хоть ты меня поделом оговорила — половина дороги давно позади. Не хвастаюсь я, Марковна, — удивляюсь! Сколько открыл нам Господь! Воистину не мерена земля православного царя, не считаны его угодья, его кладези. Вот достигли мы с тобой Иртыш-реки. А что он такое, Иртыш? Порог в русские сени. Царёв двор — до самих Даур[2], поместье уж за двором, а где этому поместью околица, одному Господу ведомо. Не хмурься, Марковна! Сам чувствую, не к добру разговорился. Довёл бы Господь до Тобольска. Ничего, кажется, нет желаннее прежней нашей тюрьмы.
— Батька! Батька! Тебя как прорвало. Господи, да не будь бешеного Струны, плохо ли в Тобольске жили? Не про всякого архиерея такой достаток, такая слава, какие Бог тебе давал.
Аввакум перекрестился и снова поскрёб голову.
— Верно, матушка. Пустобрёшество от сатаны. Покличь деток, славу Господу попоём...
— Уж скоро вечерню служить. Давай в голове погляжу.
— Поищи, — согласился протопоп. Положил голову на тёплые лядвы милой жены.
— Сколько волосков-то седых! — сказала Анастасия Марковна, а на Аввакума от слов этих горючих теплом повеяло.
— То морозы даурские прочь выходят.
— Протопопище ты мой ненаглядный! Всё тебе нипочём!
— За-ради себя на что годимся, Марковна? Ради Бога терпим. Я вот глаза прикрыл, ложась на колени твои, и знаешь, что пригрезилось? Дуб Мамрекийский[3]!
— Эко!
— Да вот. Сидят рядком: Отец, Сын, Дух Святой и овечка перед ними в чаше, Авраамом поднесённая. Помнишь сказанное под тем дубом: «Есть ли что трудное для Господа?» Марковна, оглянись на пережитое — ведь уж ничего не страшно, а многое так и смешно. Каким Перуном Пашков-то громыхал перед нами[4], грешными. Каким теперь ягнёнком травку будет щипать.
— Не смешно мне пережитое, протопоп. Двух сыночков мы там оставили... Страшное страшно. На песочке сына оставили...
— Нелюди мы были от голода, Марковна, подобно царю Навуходоносору[5], который семь лет жил, яко зверь. Навуходоносору Господь царство вернул, нам же возвращает родину милую, Русь. Ой, река Иртыш, шевели волною! Домой скачем.
Пальцы Анастасии Марковны, перебирая волосок за волоском, баюкали, солнце грело щёку. Протопоп вдруг заснул коротким, не ведающим времени сном. Увидел орла с двумя головами. Взял орёл одной лапой его, другой — матушку-протопопицу, понёс в белую страну. Являлись на небе письмена, но прочитать их не умел, грехи свет застили.
Пробудился в томленье.
— Ты уснул, — сказала Анастасия Марковна.
Аввакум, напуганный сном, хлопал ресницами: рассказать бы, да Марковна этакое возьмёт в голову, беды станет ждать.
— Зови детей, помолимся.
Пришли Иван, Прокопий, Агриппина принесла крошечку Аксиньицу, Марковна за ручку привела Акулину. Собрались казаки и бабы, ехавшие с протопопом из Нерчи, из Енисейска, из Омска.
Иван — статью отец, голосом — отец, а лицом в Анастасию Марковну. Девятнадцатый год парню. Прокопия увозили из Москвы пяти лет от роду, и вот уж пятнадцать. Дорожное дитятя. Двух мальчиков Бог взял, двух девочек дал.
Агриппине восемнадцать, замуж пора, да нет конца дороге. Уплывает земля за спину, утекают дни золотые.
Служил Аввакум сугубо{2}. Голоса поющих отражала река, и небо было их церковью, и птицы, как ангелы, вторили молитвам.
Возгласил протопоп:
— «Всех нас заступи, о Госпоже, Царице и Владычице, иже в напастех и скорбех, и болезнех, обременённых грехи многими».
Тут и повернул дощаник за утёс — Боже Ты мой! На берегу мужики с луками, с саблями. На конях скачут, к лодкам бегут.
— К берегу! — крикнул Аввакум кормщику. — Скорей к берегу заворачивай!
Сам на носу стал. В левой руке крест, правой — знамение творит, благословляя бегущих на него с оружием.
Ступил на землю, улыбаясь, распахнув объятия.
— Христос со мною! Да благословит вас, как благословил меня!
Обнял первого встречного, троекратно расцеловался с мрачным воином, державшим наготове лук и стрелу. Коснулся крестом головы начальствующего над воинами.
— Есть ли товары пригожие? Куплю, коль не больно дорого.
Татары переглядывались, но на дощанике появилась Анастасия Марковна с ребёнком на руках; недоверие таяло, как снег на апрельском солнце.
Татары, пошумев меж собою, принесли на продажу снедь, шкуры, рукомесла. Пришли женщины, поднялись к Анастасии Марковне на дощаник. Потчевала гостей едой, вином, ласковыми словами. «Лицемерилась», сказал в своём житии Аввакум, но не поскупился на похвалу: «Как бабы бывают добры, так и всё о Христе бывает добро».