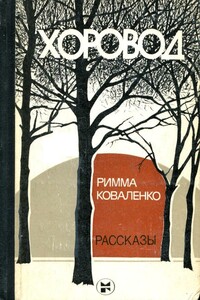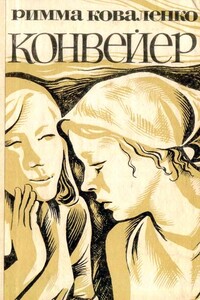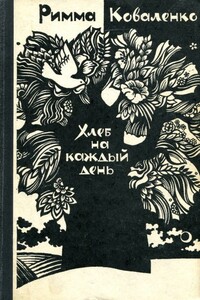Само слово «юноша» приводило меня в ярость, не говоря уже о его голубых глазах. В такую минуту я забывала, что Борис Антонович пенсионер, причем заслуженный, что Девятого мая левая половина его пиджака сияет всеми цветами радуги от орденских планок, и отвечала довольно грубо:
— Если я буду сочинять стихи и мечтать о вашем юноше, то вырасту безрукой, не приспособленной к жизни. Сейчас никто не носит изделий массового пошива. Сейчас все заботятся о своей индивидуальности.
— Ты что-то путаешь, — он тоже сердился, — если швейные фабрики выполняют и перевыполняют планы, значит, кто-то носит изделия массового пошива. И потом, разве индивидуальность определяется одеждой?
— Конечно, не одной одеждой, — отвечала я, — в человеке все должно быть прекрасно…
Этого он вынести не мог.
— Сто лет назад кто-то сказал довольно правильные, даже мудрые слова, но нельзя же их все время повторять.
— Не кто-то, а Чехов.
— Это все твое вязание, — огорчался он, — тот маленький узелок, который в твоем мозгу ведал юмором, развязался, и ты пустила его в дело — в какой-нибудь шарф или кофту.
Сам он был в восторге от собственного юмора и часто смеялся в одиночестве, в то время как я глядела на него с грустью. Был бы он помоложе и посолидней на вид, я бы его так не щадила. Но он старенький, одинокий и пережил инфаркт. Когда мы ссоримся — это все-таки иногда бывает, — мама мне говорит:
— Иди и немедленно мирись.
Я не сразу соглашаюсь.
— Но мы не просто поссорились, мы разошлись идейно: он утверждает, что человек бессмертен. Там, где-то в космосе, какая-то субстанция разума хранит бессмертие человека. Он идеалист.
— Это целиком его личное дело, — отвечает мама, — а ты немедленно иди к нему и проси прощения.
— За что?
— За то, что ты палка, пенек, а он зеленый куст. За то, что…
— Хватит, — обрываю я, — не надо со мной так круто. Я ведь знаю, почему ты его защищаешь.
— Почему?
— Потому что зависишь от него, он тебе полезен.
Вот этого мне говорить не следовало бы. На глазах у мамы выступают слезы, она краснеет и от возмущения не сразу находит слова. Верней, то единственное слово, которым она всякий раз, когда мы ссоримся, обзывает меня:
— Подпевала.
Подпеваю я своей подруге Майке. Мама утверждает, что я Майкино эхо, а под злую руку она говорит и что-нибудь более обидное: хвост. Но в этом споре мама права, потому что Майка уже не первый год твердит, как нам повезло с соседом. «Он же у вас и сторож, и секретарь на телефоне. Твоя мать должна молиться на него. Помнишь, сколько было у нее командировок, когда она собирала материал для диссертации?» Я все помнила. Это было пять лет назад, я училась тогда в четвертом классе. Борис Антонович, когда мы оставались с ним одни, разворачивал вокруг меня такую воспитательную деятельность, что я умирала, не могла дождаться возвращения мамы. Он составлял мне научный режим дня, заставлял утром бегать вокруг дома, уроки я учила вслух, а телевизор смотрела только по воскресеньям.
Мама права: я подпеваю Майке, но это честное подпевание, без фальшивых нот. Просто Майка говорит правду, и я с ней согласна. А взрослым иногда не нравится та правда, которую изрекают младшие. И мама не хотела бы слышать Майкину правду про Бориса Антоновича. А вот про Павлушу Казарина она готова слушать с утра до вечера. Но тут у нас с Майкой уговор: надо помалкивать, чтобы не делать из себя посмешища. Дело в том, что с этим Павлушей Казариным мы не знакомы, не уверены даже, что он Павлуша. Вполне возможно, что Петруша. На стенде в бассейне, где указаны часы тренировок, перед его фамилией стоит буква «П». Как сказала однажды мама: «Не исключено, что и Парамон».
Майка в него влюблена, а я, как повелось, подпеваю, то есть нахожусь в полувлюбленном состоянии: соглашаюсь с каждым Майкиным словом и с каждым днем нахожу в Павлуше все больше достоинств.
— Он не просто красив, — говорит Майка, — есть в нем еще нечто такое, что выделяет его.
— Это нечто — принципиальность, — говорю я. — Вспомни, какой у него прямой и честный взгляд.
— Как ты думаешь, — спрашивает Майка, — он женат?
— Ни в коем случае, — успокаиваю я ее, — женатые не могут тренироваться по три-четыре часа. Им надо в магазины и всякое такое. К тому же к женатому хоть раз да пришла бы на тренировку жена.
Майка не собирается замуж за Павлушу Казарина, в пятнадцать лет вообще об этом думать глупо. Но и любить женатого не умней. В Майкином представлении это трагедия. Она считает, что пловец Казарин ее первая любовь, хотя сама мне рассказывала, что первый раз влюбилась в лагере, когда перешла в третий класс.
В общем, три раза в неделю мы приходим в бассейн и смотрим, как по голубой воде движется красно-белая шапочка, надетая на голову Павлуши Казарина. Когда он вылезает из воды, мы его уже не видим, потому что в это время бежим в душ. После того как заканчиваются тренировки у пловцов, начинается просто плавание для всех, у кого есть абонемент. Мы с Майкой второй год пользуемся абонементами. И хоть все знают, что мы школьницы, а бассейн заводской, никто не спрашивает: а вы здесь как оказались? Все знают Майку, она дочь главного инженера, а я ее подруга, меня тоже знают.