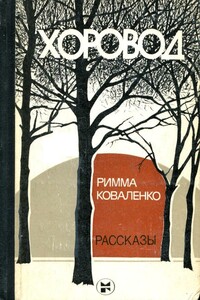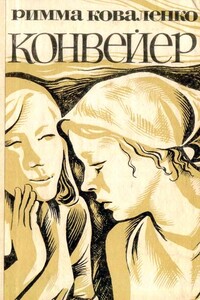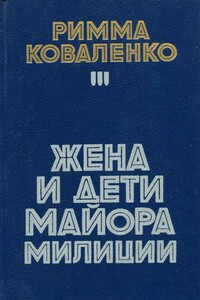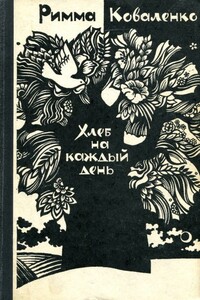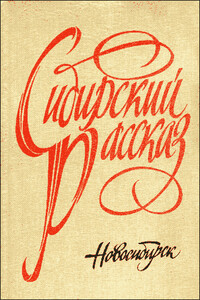Томка притащила меня на художественный совет и, по-моему, сделала что-то не то. В глазах у членов совета сразу засветился вопрос: это еще кто такая? Даже моя отважная Томка смутилась.
— Они принимают тебя за инкогнито, наверное, за инспектора из высшей инстанции, — шепнула она и тут же положила мне на спину руку, поцеловала в ухо, продемонстрировала наши родственные связи. Кажется, впустую. Сама она здесь была случайным гостем, ну, если не совсем случайным, то, во всяком случае, необязательным. Появилась главная художница Томкиной фабрики, поздоровалась со мной за руку, и мое присутствие в этой комнате, пересеченной по диагонали узким столом, никого уже больше не удивляло.
Ходить со взрослыми детьми куда бы то ни было, даже в гости, не говоря уж о художественных советах, не стоит. Я это давно знала. Но Томка жила в такой уверенности, что этот день станет ее триумфом, что я просто не могла не пойти.
Председатель художественного совета, пожилой человек с легким облачком серебряных волос, занял свое председательское кресло и тоже уставился на меня грустным взглядом умной овцы.
— Половина изделий, — начал он свою речь, — как всегда, напрасно совершает путешествие к этому многоуважаемому столу. Вот этот дутый браслет, да простит он меня, я вижу в шестой или в одиннадцатый раз. И эту брошь тоже. Изделия эти вечные, на прилавок они, без всякого сомнения, проникнут, но как бы мне с ними больше не встречаться?
Две женщины из нашего угла, в котором сидели представители фабрик и артелей, поднялись и подошли к столу. Я думала, они воровато схватят свои изделия, но не тут-то было. Одна надела браслет на свою полную руку и протянула ее председателю.
— Побойтесь бога, Адам Петрович, это же современная вещь! Все дело в том, что вы не женщина.
Другая взяла свою брошь, ничего не сказав, и вид у нее был, как у оштрафованного хоккеиста: с судьей не спорят, но какое свинство все-таки!
Мне понравилась невозмутимость председателя и членов совета. Никто из них не улыбнулся, не повел бровью, когда дама, что надела браслет, не смогла от него освободиться: он сразу так въелся в запястье, что снять его мог уже только автогенный аппарат.
— Адам смотрит на тебя, — шепнула Томка, — что бы это значило?
— Это я на него смотрю. Помолчи, пожалуйста.
Томка притихла. Адам Петрович, все так же поглядывая на меня, продолжал:
— Беда наша в том, что все мы великие гении, непризнанные таланты. Но искусство не рождается в детском саду. Не потому, что человек там мал годами, а потому, что живет на готовых харчах и готовых мыслях. Есть такая мудрая восточная поговорка: блажен, кто едет на своем коне по своей дороге. И все-таки не всякий, кто проехал на своем коне по своей дороге, оставил след.
Кое-кто из членов художественного совета поглядывал на часы. Видимо, слова председателя и то дело, ради которого собрался худсовет, могли обойтись друг без друга. Дело сверкало на столе разноцветными каменьями, сияло лаковыми крышками коробочек и шкатулок, резными боками деревянного зверья. Томкины платки затерялись в высокой стопке — образцы шелковых платков принесли на утверждение представители трех фабрик.
Томка изнывала от молчания.
— Вон тот, что спит, знаешь, какая раньше у него была фамилия?
Я посмотрела туда, куда глядела Томка, и увидела лысого старого мужчину в очках, прямо сидящего за столом с закрытыми глазами. Если он и спал, то это был в высшей степени кроткий и благопристойный сон.
— Он, когда женился, взял фамилию жены. А настоящая его фамилия Околелых. Ему семьдесят пять лет, у него уже дочка пенсионерка.
— Томка, умоляю тебя, замолчи, нас выгонят.
— Знаешь, что он говорит, когда уходит в отпуск? «Я опять еду в этот ужасный распутный Крым».
Она стихла только тогда, когда на столе появилась стопка платков. Не просто замолчала, а обмерла, и я вслед за ней почувствовала страх, какой, наверное, бывает перед всяким приговором. К столу вышла главный художник фабрики, сняла верхнюю треть платков, развернула один, приложила к груди и танцующей походкой, как манекенщица на подиуме, прошлась вдоль стола. Платок был из атласа, слежавшиеся складки крестом делили рисунок на четыре части, я в волнении не заметила, что за цветы на нем были нарисованы.
— Это Маринкин, — сказала Томка. — Я ей говорила: не лезь в атлас. Молчу.
Она вовремя замолчала; спящий старик открыл глаза, поправил очки и изрек:
— Кисти. В таком старинном материале у изделия должны быть кисти.
Главный художник закивала, что означало: кисти будут. Старик повернул голову к женщине, ведущей протокол, и завершил судьбу платка словами:
— Вторая категория.
Только четвертый платок пробудил его окончательно. Он попросил положить его перед собой на столе, снял очки и стал водить головой слева направо, словно читал невидимый текст. Наконец откинулся на спинку стула и сказал:
— Халтура. Безобразие. Собрание сочинений всех веков и народов.
— Тоже Маринкин, — сжалась Томка, — хорошо, что не пошла. А я ее тащила. Какой ужас!
— Почему он один оценивает платки, а остальные молчат? — спросила я у Томки.
— Еще заговорят. А он тут единственный специалист по батику.