Западный канон - [23]
Правдив ли этот способ изображения мужчин и женщин? Искреннее ли «Хижина дядя Тома», чем «Божественная комедия» — что бы такая постановка вопроса ни предполагала? Возможно, «Меридиан» Уокер искреннее, чем «Радуга тяготения». Несомненно, поздний Толстой искреннее, чем Шекспир или кто бы то ни было другой. Искренность не ведет легким путем к правде, а художественная литература располагается где-то между правдой и смыслом; это «где-то» я однажды сравнил с тем, что древние гностики называли кеномой — космологической пустотой, в которой мы блуждаем и рыдаем, как писал Уильям Блейк[85].
Шекспир изображает кеному убедительнее, чем кто-либо, особенно когда создает фон для событий «Короля Лира» и «Макбета». Тут Шекспир вновь в центре Канона, поскольку нам придется как следует потрудиться, чтобы вспомнить хотя бы одно изображение, которое было бы правдоподобнее всего не у Шекспира, а у кого-нибудь еще, будь то Гомер, Данте или Толстой. Стилистика Шекспира не имеет себе равных; не существует более впечатляющего собрания метафор, чем у него. Если вам нужна правда, которая выше стилистики, то вам, возможно, стоит заняться политэкономией или системным анализом и отдать Шекспира на откуп эстетам и партеру, которые совместно и вознесли его до небес.
Я все хожу вокруг тайны Шекспирова гения, хорошо понимая, что для представителей Школы ресентимента сами слова «Шекспиров гений» означают, что я не в себе. Но вот в чем загвоздка с фукианской Смертью Автора[86]: она всего лишь видоизменяет риторику, а не создает новый метод. Если «Короля Лира» и «Гамлета» написали «социальные энергии», то по какой именно причине социальные энергии плодотворнее проявились в сыне стратфордского ремесленника, чем в дюжем каменщике Бене Джонсоне? Озлобленность «нового историста» или феминиста странно сродни той озлобленности, что продолжает порождать приверженцев идеи, согласно которой подлинный автор «Короля Лира» — это сэр Фрэнсис Бэкон или граф Оксфорд. Зигмунд Фрейд, учитель всех, кто знает[87], умер в убеждении, что Моисей был египтянином, а за Шекспира все написал Оксфорд. Родоначальник оксфордианцев с отменно идущей к нему фамилией Луни[88] обрел последователя в авторе «Толкования сновидений» и «Трех очерков по психологии сексуальности». Присоединись Фрейд к Обществу плоской земли, все равно было бы не так обидно; с другой стороны, под всякой бездной есть бездна поглубже — спасибо и на том, что Фрейд посвятил гипотезе Луни всего несколько строк.
Фрейду было как-то бесконечно отрадно верить, что его предшественник Шекспир был не какой-то заурядной личностью из Стратфорда, а таинственным и могущественным дворянином. Тут больше, чем снобизм. Для Фрейда, как и для Гёте, сочинения Шекспира были средоточием светской культуры, источником надежды на грядущее торжество разума в человечестве. Но для Фрейда дело не ограничивалось и этим. В глубине души Фрейд понимал, что Шекспир изобрел психоанализ, изобретя психику, — насколько Фрейд мог ее уразуметь и описать. Приятным это понимание быть не могло, так как опровергало заявление Фрейда: «Я изобрел психоанализ, поскольку о нем не было литературы». Отмщение пришло в виде предполагаемого выявления самозванства Шекспира — уязвленное самолюбие Фрейда утешилось, хотя, если судить рационально, пьесы Шекспира от этого не перестали упреждать написанное им. Шекспир переполошил оригинальный ум Фрейда; теперь Шекспир был изобличен и посрамлен. Спасибо, что к многообразной классике новоистористского, марксистского, феминистского шекспироведения и «Моисею и монотеизму» на наших полках Фрейд не присоседил «Оксфорд и шекспиризм». Уже французский Фрейд был довольно глупой затеей; теперь у нас есть еще и французский Джойс[89] — это совсем тяжко. Но нет более явного оксюморона, чем «французский Шекспир», а новый историзм следует называть именно так.
Настоящий стратфордианец за двадцать четыре года написал тридцать восемь пьес, вернулся домой и умер. В сорок девять лет он сочинил — в соавторстве с Джоном Флетчером — свою последнюю пьесу, «Два знатных родича». Он умер три года спустя, на пороге пятидесятидвухлетия. Создатель Лира и Гамлета прожил лишенную особо ярких событий жизнь и тихо скончался в своей постели. Великой биографии Шекспира не написано не оттого, что мы чего-то о нем не знаем, но оттого, что о нем, в сущности, нечего знать. Из писателей первого ряда, современных нам, один Уоллес Стивенс, похоже, жил такой же бедной на события и душевные порывы жизнью, как Шекспир. Мы знаем, что Стивенс ненавидел прогрессивный подоходный налог, а Шекспир не забывал обращаться в Канцлерский суд ради защиты своих вкладов в недвижимость. Мы более или менее знаем, что браки Шекспира и Стивенса были не слишком страстными — разве только поначалу. На этом мы приступаем к познанию пьес или замысловатых стивенсовских вариаций на тему созерцательных восторгов умопостижения.
Воображение с удовольствием вынуждает обратиться к творчеству, когда над творчеством не бушует ураганом личность автора. В случае с Кристофером Марло меня поглощают мысли об этом человеке — о нем можно размышлять бесконечно, а о его пьесах — нельзя; в случае с Рембо меня поглощают мысли и о нем, и о его стихотворениях, хотя сам юноша еще загадочней своих стихов. Стивенс как человек так ловко ушел от самого себя, что нам едва ли следует его искать; Шекспира мы вряд ли можем назвать человеком неуловимым — но мы вообще вряд ли можем назвать его каким бы то ни было человеком. В его пьесах никто не говорит от его лица: ни Гамлет, ни Просперо и уж никак не призрак отца Гамлета, которого он, сколько нам известно, играл. Даже самые добросовестные исследователи не могут провести четкой границы между конвенциональным и личным в его сонетах. Пытаясь понять его творчество или его личность, мы всегда будем возвращаться к неоспоримому высокому значению его величайших пьес, очевидному практически со времени их первых постановок.
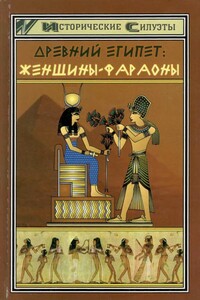
Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.
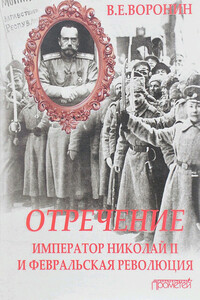
Книга посвящена деятельности императора Николая II в канун и в ходе событий Февральской революции 1917 г. На конкретных примерах дан анализ состояния политической системы Российской империи и русской армии перед Февралем, показан процесс созревания предпосылок переворота, прослеживается реакция царя на захват власти оппозиционными и революционными силами, подробно рассмотрены обстоятельства отречения Николая II от престола и крушения монархической государственности в России.Книга предназначена для специалистов и всех интересующихся политической историей России.

В книгу выдающегося русского ученого с мировым именем, врача, общественного деятеля, публициста, писателя, участника русско-японской, Великой (Первой мировой) войн, члена Особой комиссии при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков Н. В. Краинского (1869-1951) вошли его воспоминания, основанные на дневниковых записях. Лишь однажды изданная в Белграде (без указания года), книга уже давно стала библиографической редкостью.Это одно из самых правдивых и объективных описаний трагического отрывка истории России (1917-1920).Кроме того, в «Приложение» вошли статьи, которые имеют и остросовременное звучание.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.

