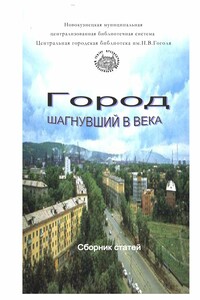Западный канон - [25]
Пытаясь выделить Шекспирово восприятие действительности (или, если угодно, разновидность действительности, данную в его пьесах), мы, скорее всего, испытаем недоумение.
Когда вы смотрите со стороны на «Божественную комедию», странность этой поэмы вас потрясает, но пьеса Шекспира кажется всецело знакомой и в то же время слишком обильной, чтобы всю ее можно было усвоить разом. Данте растолковывает вам своих персонажей; если вы не можете принять его суждений, то его поэма для вас закрывается. Шекспир открывает своих персонажей взглядам со множества точек зрения, делая из них аналитические инструменты для вынесения суждений о вас самих. Если вы — моралист, то Фальстаф вас возмутит; если вы — дурной человек, то Розалинда выведет вас на чистую воду; если вы — догматик, то Гамлет ускользнет от вас раз и навсегда. Если же вы — любитель все объяснять, то великие Шекспировы злодеи приведут вас в отчаяние. Нельзя сказать, что Яго, Эдмунд и Макбет действуют без мотивировок; их переполняют мотивировки, большую часть которых они сами себе находят, выдумывают. Подобно великим умам — Фальстафу, Розалинде, Гамлету — эти чудовищные злоумышленники суть художники, творящие сами себя, или свободные художники, как сказал Гегель. Самого плодовитого из них, Гамлета, Шекспир наделил чем-то очень похожим на авторское сознание, причем не свое, не Шекспирово. Истолковать Гамлета — задача не менее трудная, чем истолковать таких афористов, как Эмерсон, Ницше и Кьеркегор. Подмывает возразить: «Они ведь жили и писали», — но Шекспир сумел сделать так, чтобы Гамлет дописал «Убийство Гонзаго» и получилась «Мышеловка». Из всех достижений Шекспира сильнейшее удивление вызывает следующее: он предлагает больше средств для толкования нас самих, чем мы можем обеспечить для толкования его персонажей.
Для многих читателей границы подвластного человеку искусства достигнуты в «Короле Лире», который наряду с «Гамлетом» представляется вершиной шекспировского канона. Лично я предпочитаю «Макбета»; в этой пьесе меня всякий раз наново потрясает ее безжалостная лапидарность — в ней нет ни единого лишнего монолога, ни единой лишней фразы. Но все-таки в «Макбете» есть лишь один колоссальный персонаж, и даже в «Гамлете» главный герой занимает такое исключительное положение, что остальные действующие лица (и мы вместе с ними) ослеплены его запредельным блеском. Шекспирова способность к индивидуализации более всего проявилась в «Короле Лире» и, как ни странно, в «Мере за меру», двух пьесах, в которых незначительных персонажей просто нет. «Король Лир» переносит нас в святую святых канонического совершенства — так же как некоторые песни «Ада» или «Чистилища» или иная проза Толстого вроде «Хаджи-Мурата». Где, если не там, пламя изобретательности сжигает все контексты и дарует нам возможность приобщиться к тому, что можно назвать первичной эстетической ценностью, свободной от истории с идеологией и доступной каждому, кто способен научиться читать и видеть ее?
Приверженцы ресентимента могут сделать упор на то, что научиться этому способна только элита. Как подсказывают нам самые правдивые минуты, чем ближе конец этого века, тем труднее становится вдумчиво читать. В чем бы ни была причина — в СМИ или в прочих отвлекающих факторах Хаотической эпохи, — даже элита уже читает не так внимательно. Может быть, пристальное чтение и не закончилось на моем поколении, но после нас оно определенно пришло в упадок. Не существенно ли, что мне было почти сорок лет, когда я впервые купил телевизор? Иногда мне кажется — уверенности у меня нет, — что предпочтение исследователями и критиками тексту контекста есть признак того, что поколение устало от вдумчивого чтения. Разъяснить трагедию Лира и Корделии можно даже самым поверхностным зрителям и читателям, так как Шекспир, по странности своей, привлекает к себе внимание практически на всех уровнях. Но, должным образом поставленная, должным образом прочитанная, трагедия эта требует большего, чем может дать отдельно взятое человеческое сознание.
Известно, что для доктора Джонсона смерть Корделии была непереносима: «Много лет назад я был так потрясен смертью Корделии, что не знаю, смог бы я еще хоть раз перечитать последние сцены этой пьесы, не возьмись я готовить их к печати».
Джонсон указывает на ощущение страшной опустошенности, которое есть в последней сцене «Короля Лира» — оно превосходит все в этом роде и у Шекспира, и у любого другого писателя. Наверное, смерть Корделии для Джонсона — синекдоха этой опустошенности, явления старого короля, вновь утратившего от горя рассудок, который входит, неся на руках мертвую Корделию. Как образ, это зрелище опровергает все естественные ожидания; Фрейд дал ему известное искаженное истолкование в «Мотиве выбора ларца» (1913):
…Лир выносит на сцену мертвое тело Корделии. Корделия олицетворяет смерть. Если переиначить эту ситуацию, она станет нам понятнее и ближе. Ведь это же богиня смерти, выносящая павшего в бою героя с поля битвы, как Валькирия в германской мифологии. Вечная мудрость в облачении древнего мифа советует старику отказаться от любви, выбрать смерть, примириться с неизбежностью ухода

В брошюре в популярной форме вскрыты причины появления и бытования антисемитизма, показана его реакционная сущность.
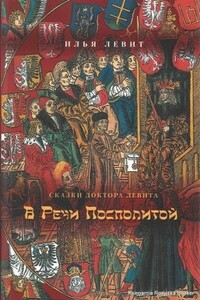
«В Речи Посполитой» — третья книга из серии «Сказки доктора Левита». Как и две предыдущие — «Беспокойные герои» («Гешарим», 2004) и «От Андалусии до Нью-Йорка» («Ретро», 2007) — эта книга посвящена истории евреев. В центре внимания автора евреи Речи Посполитой — средневековой Польши. События еврейской истории рассматриваются и объясняются в контексте истории других народов и этнических групп этого региона: поляков, литовцев, украинцев, русских, татар, турок, шведов, казаков и других.

Монография посвящена одной из ключевых фигур во французской национальной истории, а также в истории западноевропейского Средневековья в целом — Жанне д’Арк. Впервые в мировой историографии речь идет об изучении становления мифа о святой Орлеанской Деве на протяжении почти пяти веков: с момента ее появления на исторической сцене в 1429 г. вплоть до рубежа XIX–XX вв. Исследование процесса превращения Жанны д’Арк в национальную святую, сочетавшего в себе ее «реальную» и мифологизированную истории, призвано раскрыть как особенности политической культуры Западной Европы конца Средневековья и Нового времени, так и становление понятия святости в XV–XIX вв. Работа основана на большом корпусе источников: материалах судебных процессов, трактатах теологов и юристов, хрониках XV в.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В интересной книге М. Брикнера собраны краткие сведения об умирающем и воскресающем спасителе в восточных религиях (Вавилон, Финикия, М. Азия, Греция, Египет, Персия). Брикнер выясняет отношение восточных религий к христианству, проводит аналогии между древними религиями и христианством. Из данных взятых им из истории религий, Брикнер делает соответствующие выводы, что понятие умирающего и воскресающего мессии существовало в восточных религиях задолго до возникновения христианства.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.