Западный канон - [21]
В каком-то смысле «каноническое» всегда означает «внутриканоническое», потому что Канон не только возникает из состязания, но и сам по себе является непрерывным состязанием. Литературная власть дается частичными победами в этом состязании, и, даже если речь идет о таком мощном поэте, как Мильтон, очевидно, что его сила имеет соревновательный характер и, следовательно, нельзя сказать, что она — целиком и полностью его, Мильтона. Крайние случаи более полной самостоятельности — это, на мой взгляд, Данте и еще в большей мере — Шекспир. Данте — это в некотором роде более сильный вариант Мильтона, и его победа над всеми соперниками — и теми, кто был до него, и современниками, — еще более убедительна, чем триумф Мильтона, хотя бы потому, что в Мильтоне все-таки очень чувствуется Шекспир. Данте влияет на то, как мы читаем Вергилия, а Шекспир может коренным образом изменить наш подход к Мильтону. Но Вергилий не сильно влияет на наше понимание Данте, поскольку настоящего Вергилия-эпикурейца Данте упразднил. Мильтон не поможет нам разобраться в Шекспире, поскольку обезличение Мильтоном Шекспира лишь повторяет и искажает тактику самого Шекспира — растворяться в своих сочинениях.
Эта Шекспирова метода, более действенная, чем всякое открытое самоканонизирование, возвращает нас к тому нейтральному положению, которое занимает Шекспир в качестве центра канона. В биографической литературе устоялась традиция изображения Уильяма Шекспира вовсе без отличительных качеств, как бы по контрасту с такими яркими личностями, как Данте, Мильтон или Толстой. Его друзья и знакомые оставили свидетельства о добродушном, довольно заурядном на вид человеке: открытом, дружелюбном, остроумном, благовоспитанном, свободном в обращении — с таким хорошо выпить по рюмке. Все сходятся на том, что он был приветлив и скромен, при этом в деловых вопросах — не промах. Это совершенно в духе Борхеса: такое впечатление, что создатель десятков первостепенных характеров и сотен не менее колоритных персонажей помельче решил не расходовать энергии воображения на то, чтобы придумать образ себе самому. В самом центре Канона находится наименее сосредоточенный на себе и наименее агрессивный из всех известных нам первостепенных писателей.
Внешняя бесцветность Шекспира обратно пропорциональна его сверхъестественным драматургическим способностям, и для понимания этого соотношения наших аналитических способностей не хватает. Два его квазисоперника из числа современников были люди невероятно яркие: неистовый дюжий Бен Джонсон и Кристофер Марло, двойной агент и фаустовского типа нарушитель границ. Они были великие поэты и сегодня не менее, наверное, славны своей жизнью, чем своими стихами. Шекспира кое-что роднит с тихим Сервантесом, но Сервантес против своей воли вел жизнь, состоявшую из экстравагантных поступков и катастрофических несчастий. Есть у Шекспира общие черты с Монтенем, но творческое уединение Монтеня перемежалось высокой политикой и гражданской войной. Мольер — быть может, близнец Шекспира в плане темперамента и комического гения, но Шекспир был небольшой актер, а Мольер — большой, и Мольер, несмотря на «Дон Жуана», избегал трагедии, как Расин за версту обходил комедию. Таким образом, Шекспир, при всей своей явной открытости, странным образом обособлен среди величайших писателей. Он постиг больше любого другого писателя, мыслил глубже и самобытнее всех остальных и владел языком гораздо непринужденнее и лучше, чем кто бы то ни было, в том числе Данте.
Разгадка тайны центрального положения Шекспира в Каноне отчасти кроется в его беспристрастности; как бы его ни бичевали «новые истористы» и прочие люди ресентимента, Шекспир почти так же свободен от всякой идеологии, как его героические умы: Гамлет, Розалинда, Фальстаф. У него нет ни богословской, ни метафизической, ни этической программы, да и политической теории куда меньше, чем полагают современные исследователи его творчества. По сонетам Шекспира видно, что он едва ли был свободен от «Сверх-Я», в отличие от Фальстафа; едва ли был отрешен от земного, в отличие от Гамлета в преддверии конца; едва ли полностью управлял всеми аспектами своей жизни, в отличие от Розалинды. Но, поскольку он вообразил их всех, можно предположить, что он просто не пожелал помыслить себя вне своих границ. Что приятно, он, не будучи Ницше или королем Лиром, отказался сойти с ума, хотя мог вообразить безумие, равно как и все остальное. Его мудрость бесконечно преображается в наших мудрецах, от Гёте до Фрейда, — притом что сам Шекспир отказался выставить себя мудрецом.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Александр Андреевич Расплетин (1908–1967) — выдающийся ученый в области радиотехники и электротехники, генеральный конструктор радиоэлектронных систем зенитного управляемого ракетного оружия, академик, Герой Социалистического Труда. Главное дело его жизни — создание непроницаемой системы защиты Москвы от средств воздушного нападения — носителей атомного оружия. Его последующие разработки позволили создать эффективную систему противовоздушной обороны страны и обеспечить ее национальную безопасность. О его таланте и глубоких знаниях, крупномасштабном мышлении и внимании к мельчайшим деталям, исключительной целеустремленности и полной самоотдаче, умении руководить и принимать решения, сплачивать большие коллективы для реализации важнейших научных задач рассказывают авторы, основываясь на редких архивных материалах.
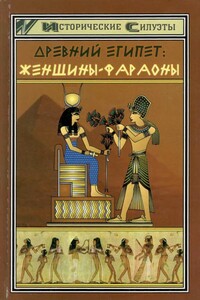
Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

“Последнему поколению иностранных журналистов в СССР повезло больше предшественников, — пишет Дэвид Ремник в книге “Могила Ленина” (1993 г.). — Мы стали свидетелями триумфальных событий в веке, полном трагедий. Более того, мы могли описывать эти события, говорить с их участниками, знаменитыми и рядовыми, почти не боясь ненароком испортить кому-то жизнь”. Так Ремник вспоминает о времени, проведенном в Советском Союзе и России в 1988–1991 гг. в качестве московского корреспондента The Washington Post. В книге, посвященной краху огромной империи и насыщенной разнообразными документальными свидетельствами, он прежде всего всматривается в людей и создает живые портреты участников переломных событий — консерваторов, защитников режима и борцов с ним, диссидентов, либералов, демократических активистов.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.

