В большом чуждом мире - [111]
— Сними шляпу, — приказал он, — и утопи.
В полном отчаянии Волшебник снял белую соломенную шляпу и сунул ее в воду, то ли надеясь своей угодливостью пробудить во врагах жалость, то ли просто слепо повинуясь им. Болото, зловеще чавкая, безжалостно тянуло его па дно. Он в последний раз взглянул на бандитов, хотел что-то сказать и не смог — так дрожали у него губы.
— Прощай, — жестоко пошутил Белый.
Волшебник бил ладонями по тине в детской надежде на спасение. И вдруг, когда он погрузился до самых плеч, ноги его коснулись чего-то твердого — камня или более плотной глины. Увидев, что он больше не тонет, бандиты переглянулись. Будь он пониже, вода дошла бы ему до ноздрей, а так на поверхности торчала еще вся голова. Лицо его побелело, как у мертвеца, лишь глаза жутко светились. Он уже не дрожал, нервы были парализованы.
— Накинь на него лассо, — приказал Белому Киспе.
Тот ловко метнул лассо, Кондоруми помог ему тащить веревку, и тощее тело, прорезав тину, распласталось на берегу, словно грязный лоскут. Однако Волшебник был жив. Он поднял глаза на бандитов и, плача, взмолился:
— Пожалейте меня.
— Пожалеть? А ты кого-нибудь пожалел за свою жизнь?
И в самом деле он ни разу не испытал жалости. С тех пор, как мучил птицу с подбитым крылом, и до того времени, когда помогал ловить беглых индейцев, обрек целое селение на нищету и на смерть в рудниках, торговец не ведал сострадания. И мысль о гибели стала ему как-то ближе, хотя он и не мог с ней примириться. Волшебник совсем ослаб, пал духом и горько плакал.
— Ну, Кондоруми, покажи свою силу, — сказал Доротео. — Закинь-ка его поглубже…
Кондоруми схватил тщедушное тело, раскачал и швырнул изо всех сил. Волшебник упал шагах в двадцати, и мягкая топь с глухим чавканьем поглотила его. По тине пошли пузыри, словно что-то под ней содрогалось, даже как будто послышался крик, перешедший в хрипение. Но рябь улеглась, лопнуло еще два-три пузыря, и жадное, черное болото обрело былое спокойствие.
Разбойники молча двинулись в путь. Кричала какая-то птица, свистела сухая трава, дальние горы вонзались в чистое небо. На плоскогорье и на болото медленно опускалось неумолимое время.
XV. Кровь и каучук
Аугусто Маки шел по лесной тропе. Три глубоких и сильных чувства слились в его сердце. Одно родилось, когда он расстался с конем на площади Чачапойас и оборвалась последняя нить, связывавшая его с общиной. По сути дела, даже Бенито Кастро повезло больше, ведь ему не пришлось оставить своего коня. Аугусто потрепал буланого по шее, машинально взял тридцать солей и смотрел, как новый владелец ведет коня за узду, пока они не скрылись за поворотом. Кому понять невыразимую печаль крестьянина, который, расставшись со своей лошадью, остается один в незнакомом мире? Страдает и конь. Иные оборачиваются к хозяину и тоскливо ржут, а хозяин плачет. Лошадь так связана с его судьбой, так много вместе пережито, что хочется удержать ее и назвать другом. Но встают неодолимые препятствия, упрямые преграды, и пути расходятся, перед каждым — своя жизненная дорога. Коню в сельву нельзя, Аугусто можно. Буланый не заржал, лишь напряг свое сильное тело в ответ на нежное прикосновение хозяина и посмотрел на него черными бархатными глазами. Когда новый хозяин потянул за уздечку, он вдруг уперся, повернулся к Аугусто, словно просил у него защиты, но свистнул кнут, и в печальной покорности конь побрел медленным, опасливым шагом. Аугусто не заплакал лишь потому, что тут же стоял дон Ренато, с которым он подписал контракт и который твердил ему от самой Кахамарки, где выдал вперед триста солей, что сельве нужны железные сердца.
Другое чувство было связано с тем, что Аугусто уходил от гор в тропический лес. Мало-помалу за спиной оставались пики, скалы, холмы, склоны, откосы. Самый камень стал исчезать, зато зелени становилось все больше и больше. Трава превращалась в кустарник, кустарник — в рощу, роща — в лес, лес — в девственную сельву. Аугусто невольно оглядывался, и ему казалось, что он понемногу погружается в какую-то глубокую яму. Далеко-далеко, на горизонте, тянулась ломаная линия синих гор. То был его мир. Теперь он вступал в новый, ему неведомый мир — сельву.
Третье сильное чувство было связано с трудностями пути. Когда начался густой лес, погонщики, нанятые доном Ренато, вернулись с мулами назад, а шедшие впереди каучеро[31] пригнали десяток индейцев из сельвы, которые и понесли тюки, оружие, консервы, одежду, топоры. С силой и отрешенностью животных, терпеливые, как мулы, они, лишь изредка кряхтя под тяжестью нош, взвалили груз на плечи и двинулись вперед. Сельву прорезала тропа, вернее — туннель, где полом была топкая земля, сводом — ветви, а стенами — толстые стволы. Впереди шли индейцы, потом дон Репато, за ним — нанявшиеся на работу парии, среди них — Аугусто и каучеро. Был день, но казалось, что уже наступили сумерки. Время от времени сквозь густую листву просачивался луч солнца и неумолимо бил в глаза. Земля была вся в рытвинах. Они шли гуськом, и каждый видел лишь спину товарища, несколько стволов, а дальше — темноту, словно они уходили в ночь. Дон Ренато сказал, ощутив всю мощь и печаль амазонского леса:

Романы Сиро Алегрии приобрели популярность не только в силу их значительных литературных достоинств. В «Золотой змее» и особенно в «Голодных собаках» предельно четкое выражение получили тенденции индихенизма, идейного течения, зародившегося в Латинской Америке в конце XIX века. Слово «инди́хена» (буквально: туземец) носило уничижительный оттенок, хотя почти во всех странах Латинской Америки эти «туземцы» составляли значительную, а порой и подавляющую часть населения. Писатели, которые отстаивали права коренных обитателей Нового Света на земли их предков и боролись за возрождение самобытных и древних культур Южной Америки, именно поэтому окрестили себя индихенистами.
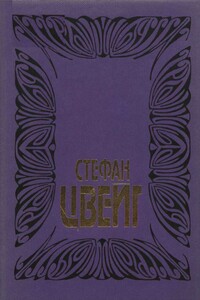
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881 - 1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В десятый том Собрания сочинений вошли стихотворения С. Цвейга, исторические миниатюры из цикла «Звездные часы человечества», ранее не публиковавшиеся на русском языке, статьи, очерки, эссе и роман «Кристина Хофленер».
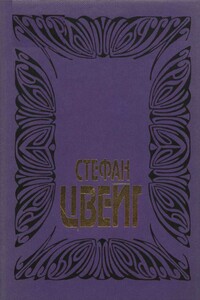
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (18811942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В четвертый том вошли три очерка о великих эпических прозаиках Бальзаке, Диккенсе, Достоевском под названием «Три мастера» и критико-биографическое исследование «Бальзак».
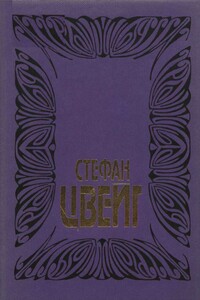
Собрание сочинений австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942) — самое полное из изданных на русском языке. Оно вместило в себя все, что было опубликовано в Собрании сочинений 30-х гг., и дополнено новыми переводами послевоенных немецких публикаций. В второй том вошли новеллы под названием «Незримая коллекция», легенды, исторические миниатюры «Роковые мгновения» и «Звездные часы человечества».

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

„А. В. Амфитеатров ярко талантлив, много на своем веку видел и между прочими достоинствами обладает одним превосходным и редким, как белый ворон среди черных, достоинством— великолепным русским языком, богатым, сочным, своеобычным, но в то же время без выверток и щегольства… Это настоящий писатель, отмеченный при рождении поцелуем Аполлона в уста". „Русское Слово" 20. XI. 1910. А. А. ИЗМАЙЛОВ. «Он и романист, и публицист, и историк, и драматург, и лингвист, и этнограф, и историк искусства и литературы, нашей и мировой, — он энциклопедист-писатель, он русский писатель широкого размаха, большой писатель, неуёмный русский талант — характер, тратящийся порой без меры». И.С.ШМЕЛЁВ От составителя Произведения "Виктория Павловна" и "Дочь Виктории Павловны" упоминаются во всех библиографиях и биографиях А.В.Амфитеатрова, но после 1917 г.

Образ Христа интересовал Никоса Казандзакиса всю жизнь. Одна из ранних трагедий «Христос» была издана в 1928 году. В основу трагедии легла библейская легенда, но центральную фигуру — Христа — автор рисует бунтарем и борцом за счастье людей.Дальнейшее развитие этот образ получает в романе «Христа распинают вновь», написанном в 1948 году. Местом действия своего романа Казандзакис избрал глухую отсталую деревушку в Анатолии, в которой сохранились патриархальные отношения. По местным обычаям, каждые семь лет в селе разыгрывается мистерия страстей Господних — распятие и воскрешение Христа.

Историю русского военнопленного Григория Папроткина, казненного немецким командованием, составляющую сюжет «Спора об унтере Грише», писатель еще до создания этого романа положил в основу своей неопубликованной пьесы, над которой работал в 1917–1921 годах.Роман о Грише — роман антивоенный, и среди немецких художественных произведений, посвященных первой мировой войне, он занял почетное место. Передовая критика проявила большой интерес к этому произведению, которое сразу же принесло Арнольду Цвейгу широкую известность у него на родине и в других странах.«Спор об унтере Грише» выделяется принципиальностью и глубиной своей тематики, обширностью замысла, искусством психологического анализа, свежестью чувства, пластичностью изображения людей и природы, крепким и острым сюжетом, свободным, однако, от авантюрных и детективных прикрас, на которые могло бы соблазнить полное приключений бегство унтера Гриши из лагеря и судебные интриги, сплетающиеся вокруг дела о беглом военнопленном…
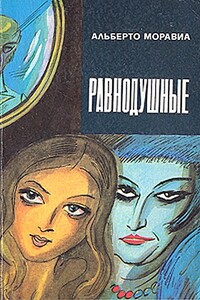
«Равнодушные» — первый роман крупнейшего итальянского прозаика Альберто Моравиа. В этой книге ярко проявились особенности Моравиа-романиста: тонкий психологизм, безжалостная критика буржуазного общества. Герои книги — представители римского «высшего общества» эпохи становления фашизма, тяжело переживающие свое одиночество и пустоту существования.Италия, двадцатые годы XX в.Три дня из жизни пятерых людей: немолодой дамы, Мариаграции, хозяйки приходящей в упадок виллы, ее детей, Микеле и Карлы, Лео, давнего любовника Мариаграции, Лизы, ее приятельницы.
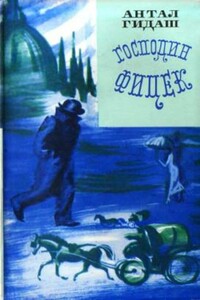
В романе известного венгерского писателя Антала Гидаша дана широкая картина жизни Венгрии в начале XX века. В центре внимания писателя — судьба неимущих рабочих, батраков, крестьян. Роман впервые опубликован на русском языке в 1936 году.