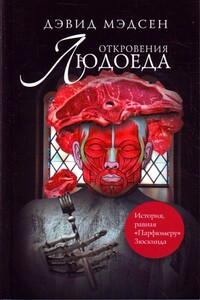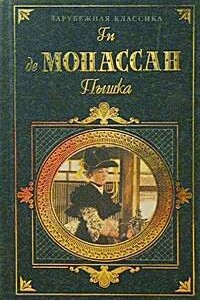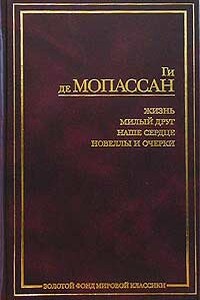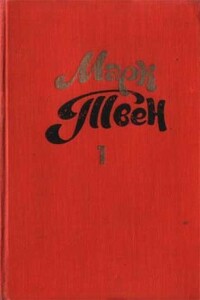— Так вот, однажды и мне привелось судить, — сказал пан Фирбас, откашливаясь, — потому что по жеребьевке выпало быть присяжным. В то время как раз слушалось дело мужеубийцы Луизы Каданиковой. Нас, присяжных, было восемь мужчин и четыре женщины.
Видит бог, эти бабы уж постараются освободить Луизу, думалось нам, мужчинам. И мы заранее настроились против нее.
А был это очень даже обыкновенный случай несчастливого супружества. Землемер Каданик взял себе жену на двадцать лет моложе; Луиза тогда была девчонкой, и нашелся свидетель, который рассказал, что на другой день после свадьбы молодая плакала, бледная как мел, и ее трясло, когда муж хотел до нее дотронуться.
Сколько раз я думал — какой, должно быть, ужас переживает после свадьбы такая вот невинная и неискушенная девушка: вы только представьте себе, что муж уже привык иметь дело с девками и вел себя соответственно. Нет, этого ни один мужчина даже вообразить не может.
Однако государственный обвинитель раздобыл другое свидетельство: дескать, были у Луизочки до свадьбы шуры-муры с одним студентом, да и потом они переписывались. Короче говоря, сразу после свадьбы стало ясно, что этому супружеству не сладиться; пани Луиза не скрывала своего физического отвращения к мужу, через год она скинула, и с той поры у нее пошли какие-то женские болезни. Пан землемер старался утешиться на стороне, а дома скандалил из-за каждого крейцера.
В тот злополучный день у них опять была свара из-за крепдешиновой рубашки или еще чего-то этакого, и пан землемер начал обуваться: дескать, дома он киснуть не намерен.
Тут Луизочка и подкралась к нему сзади и выстрелила из браунинга в затылок. Потом выскочила в коридор, забарабанила в двери соседям, чтобы шли к мужу: она, мол, его убила и идет отдать себя в руки правосудия, но на лестнице свалилась в судорогах. Вот и вся история.
И теперь мы — двенадцать присяжных — собрались, чтобы судить ее вину. Говорят, Луиза была красивой девушкой, только, знаете, предварительное заключение женщину не красит: на суде она сидела какая-то опухшая, только на бледном лице горели злые, ненавидящие глаза. Наверху в черной мантии, воплощением справедливости, восседал председатель суда, величественный, почти как священнослужитель. Государственным обвинителем был самый роскошный прокурор, какого мне довелось видеть: здоровый, как бык, собранный и напористый, словно сытый тигр; было заметно, что он упивался своей силой и превосходством, кидаясь на добычу, которая снизу с исступленной ненавистью сверлила его горящими глазами. Адвокат обвиняемой то и дело раздраженно вскакивал и пререкался с государственным обвинителем; нас, присяжных, это тяготило, порой казалось, что мы не на суде над женщиной-убийцей, а присутствуем на каком-то споре между защитником и обвинителем…
— Были, значит, еще и мы — судьи из народа, нам хотелось судить по совести, только при самых лучших намерениях мы большую часть времени умирали со скуки от этих адвокатских заковык да судебных формальностей. А сзади теснилась публика, смакующая историю Луизы Каданиковой, и когда та попадала в тупик и затравленно молчала, было слышно, как эти люди хрюкают от наслаждения. — Пан Фирбас отер лоб, будто вспотел. — Мне порой казалось, что я не выборный судья, а человек на дыбе: будто самому надо встать и заявить — признаю свою вину, делайте со мной что хотите.
Были там еще и свидетели; каждый давал показания со значительным видом, раздуваясь от гордости, что он что-то знает; и из этих показаний складывалась как на ладони жизнь маленького городка, этого скопища зависти, поклепов, политиканства, протекций, шушуканья, злобы, интриг и скуки. По одним свидетельствам, покойник был честный и прямой человек, примерный гражданин с наилучшей репутацией; по другим — бабник, скопидом, жестокий, безнравственный и грубый; короче — выбирай, что хочешь.
Пани Луизе доставалось больше — говорили, что она и ветреница, и мотовка, и кокетка, носила шелковое белье, домом не занималась, делала долги.
Обвинитель наклонился с ледяной усмешкой:
— Обвиняемая, были у вас в девичестве близкие отношения с каким-нибудь мужчиной?
Обвиняемая молчала, только на щеках вспыхивал лихорадочный румянец.
Защитник вскакивал: прошу заслушать показания такой-то, Каданик с ней прелюбодействовал, когда она у него служила. У них был ребенок.
Судья хмурился — видно, думал: господи, этому разбирательству конца не будет!
Суд без конца копался в отвратительных домашних дрязгах: кто из супругов первый начал семейную распрю, сколько получала пани Луиза на хозяйство, было ли мужу за что ее ревновать… Тянулись часы, и мне начинало казаться, будто говорят не о покойном Каданике и его семейной жизни, а обо мне или о ком-нибудь из присяжных, вообще о ком-то из нас; господи, это ведь о покойнике, а я тоже так поступал, такие вещи делаются всюду, чего об этом толковать? Мне казалось, будто одежка за одежкой раздевают всех нас, мужчин и женщин. Перемывают нам косточки, трясут наше грязное белье, вытягивают на свет тайны наших постелей и привычек. Будто по косточкам разбирают нашу собственную жизнь, только так зло и так жестоко, что она представляется сплошным адом. Собственно, Каданик был не так уж плох: ну, грубоват, срывал на жене зло, унижал ее, был черствый и скупой, потому что зарабатывал трудно и мало; вел беспутную жизнь, соблазнял служанок и был в связи с некоей вдовой, но ведь это, наверное, со зла, от уязвленного мужского самолюбия, пани-то Луиза его ненавидела, словно он был каким-то омерзительным насекомым. И что странно: когда кто-нибудь из свидетелей защиты показывал против убитого — дескать, был он сварливый, мелочный, жестокий и в половом отношении грубый и властный, — в нас присяжных-мужчинах пробуждалось что-то вроде неудовольствия и солидарности: стоп, думалось нам, если за это стрелять… А когда другой свидетель показывал против пани Луизы, что она была и легкомысленная, и щеголиха, и то и се, мы испытывали к ней какую-то симпатию, готовы были на многое посмотреть сквозь пальцы, а четыре женщины сжимали губы и взгляд их выражал непримиримость.