Странный рыцарь Священной книги - [5]
И подошел к стене. Лишь тогда я заметил, что там есть дверь. Ключ с усилием повернулся, а Доминиканцу пришлось поднатужиться, чтобы дверь уступила и приоткрылась. Мы вошли — сначала я, за мной кардинал и Доминиканец — в каменную темницу. Посреди нее стоял один-единственный небольшой сундук, окованный железными обручами и напоминавший сказочные сундуки с сокровищами.
Кардинал сказал:
— Эта темница предназначена для одного-единственного узника — опаснейшего из всех. Для Тайной книги богомилов.
Я молчал. Торжественность, с какой были произнесены эти слова, подсказывали мне, что он намерен сообщить нечто крайне важное. И он сказал:
— Анри де Вентадорн, ты доставишь сюда страшную эту Книгу, дабы навечно заточить ее здесь.
Стало ясно, зачем меня привели. Разумеется, я не раз слышал о Тайной книге богомилов. Но слышал также об их сокровищах, о сундуках с яхонтами и мешках с золотом, некогда перевезенных в Монсегюр после падения Болгарского царства.
И верил в эти россказни не больше, чем в чашу Грааля. Выходило, однако, что эта Книга существует, иначе могущественнейший из римских кардиналов не водил бы меня по этому преддверию ада.
Кардинал сказал:
— Когда Книга окажется здесь, в своем вечном узилище, ты получишь пять тысяч золотых венецианских дукатов.
Я в изумлении воскликнул:
— Есть книга, которая стоит пять тысяч дукатов?
Кардинал сказал:
— Столько стоишь ты, Анри. Книга же — во много раз больше. Она бесценна. Во что, полагаешь ты, обойдется новый поход на еретиков?
Я молчал. Кардинал и монах тоже. Молчание становилось невыносимым, и я спросил:
— А что в этой Книге?
Кардинал ответил:
— Корни тех ересей, что сотрясают христианский мир и Святую нашу католическую церковь.
Доминиканец добавил:
— Окаянные черви, что подтачивают корни благословенного древа Святого Креста.
Кардинал сказал:
— Святой Бернар говорит о еретиках — они безгрешны, никому не причиняют зла, не едят даром хлеб свой и учат, что каждый должен жить плодами трудов своих. Многие добрые христиане могут поучиться у них.
На это я сказал:
— Монсеньор, благородство, выказываемое вами к еретикам, превосходит даже справедливость вашу.
Кардинал ответил со вздохом:
— Не благородство это. И не справедливость. Чтобы одолеть врага, должно оценивать его по достоинству.
Он шагнул к сундуку и в связке ключей у пояса стал искать нужный ключ. Плащ его распахнулся и блеснула кольчуга. Теперь он уже походил на воина, а не на священнослужителя. И сказал:
— Лишь самые преданные сыновья церкви могут заглянуть в бездну этой могилы.
А я сказал:
— Ваше Святейшество, доверие и благоволение ваше — наивысшая для меня награда.
Он невесело усмехнулся:
— Мое благоволение в придачу к золотым флоринам.
Я возразил — не столько из желания поторговаться, сколько для того, чтобы рассеять мрачную торжественность, которая леденила не меньше, чем каменные стены темницы:
— Вы не совсем точны, Монсеньор.
Кардинал в первую минуту не понял меня, лишь почувствовал, что я пытаюсь разогнать гнетущую тучу предвечного хлада и неумолимой обреченности, которая навалилась на нас. И сказал:
— Не хочешь ли ты сказать, что тебе мало моего благоволения?
Я ответил:
— Позволю себе напомнить вам, что речь идет о пяти тысячах венецианских дукатов, а не флоринов.
Поясню, если кто-то не знает — золотые венецианские дукаты ценились дороже флорентийских флоринов.
Доминиканец презрительно хмыкнул. Кардиналу, наконец, удалось приоткрыть сундук. На дне его лежал один-единственный лист пергамента, прилепившийся к железу, не свернутый в свиток. Я потянулся за ним, но кардинал перехватил мою руку. Сам вынул этот лист и взял у меня факел. После чего сказал:
— Евангелие от Святого Иоанна…
Я невольно добавил:
— Четвертое Евангелие.
Доминиканец с внезапной, напугавшей меня горячностью воскликнул:
— Пятое Евангелие! Лже-Библия еретиков.
Кардинал, не заглядывая в пергамент, заговорил:
— Тут вопросы Святого Иоанна и ответы Христа, Господа Бога нашего, записанные самим святым. О том, как дьявол сотворил мир и восстал против Бога, как презренные церковники принудили людей поклоняться кресту, на котором был распят Сын Божий, и молиться новым идолам, называемым иконами…
Пока кардинал говорил, лицо его изменилось: потемнели и остекленели глаза, губы скривились — тонкие, жестокие. Он словно выплевывал эти невыносимо горькие для него слова. С отвращением произносил их и страшился произнесенного. Однако находил в себе силы изрекать их.
Потом опустил руку с пергаментом и закрыл глаза. Он извлекал слова, как черных рыб из мутного потока:
— В этой Книге отрицается Святое причастие и Божественная литургия…
И умолк, уже не в силах произносить дерзостные слова. Тогда вновь прозвучал голос Доминиканца:
— В ней возводят хулу на священные звания и утверждают, что священнослужитель — обыкновенный смертный.
Вновь заговорил кардинал:
— Там написано, что церкви не пристало вторгаться в мирские дела.
Доминиканец произнес:
— И что бедный люд не должен повиноваться господам своим.
Я слушал голоса их, обгонявшие друг друга в полутьме каменной гробницы, и словно участвовал в некой черной литургии в подземном храме отринутого Бога. Меня охватило дурное предчувствие и вместе с тем треклятое искушение найти эту книгу и прочесть. А когда оба голоса смолкли, я лишь сказал:
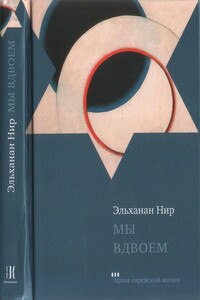
Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.
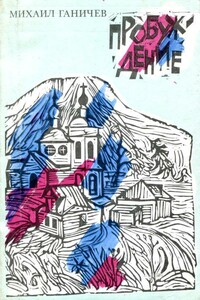
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Безымянный герой романа С. Игова «Олени» — в мировой словесности не одинок. Гётевский Вертер; Треплев из «Чайки» Чехова; «великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда… История несовместности иллюзорной мечты и «тысячелетия на дворе» — многолика и бесконечна. Еще одна подобная история, весьма небанально изложенная, — и составляет содержание романа. «Тот непонятный ужас, который я пережил прошлым летом, показался мне знаком того, что человек никуда не может скрыться от реального ужаса действительности», — говорит его герой.

Две повести Виктора Паскова, составившие эту книгу, — своеобразный диалог автора с самим собой. А два ее героя — два мальчика, умные не по годам, — две «модели», сегодня еще более явные, чем тридцать лет назад. Ребенок таков, каков мир и люди в нем. Фарисейство и ложь, в которых проходит жизнь Александра («Незрелые убийства»), — и открытость и честность, дарованные Виктору («Баллада о Георге Хениге»). Год спустя после опубликования первой повести (1986), в которой были увидены лишь цинизм и скандальность, а на самом деле — горечь и трезвость, — Пасков сам себе (и своим читателям!) ответил «Балладой…», с этим ее почти наивным романтизмом, также не исключившим ни трезвости, ни реалистичности, но осененным честью и благородством.

Знаменитый роман Теодоры Димовой по счастливому стечению обстоятельств написан в Болгарии. Хотя, как кажется, мог бы появиться в любой из тех стран мира, которые сегодня принято называть «цивилизованными». Например — в России… Роман Димовой написан с цветаевской неистовостью и бесстрашием — и с цветаевской исповедальностью. С неженской — тоже цветаевской — силой. Впрочем, как знать… Может, как раз — женской. Недаром роман называется «Матери».

«Это — мираж, дым, фикция!.. Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует!.. Разруха сидит… в головах!» Этот несуществующий эпиграф к роману Владимира Зарева — из повести Булгакова «Собачье сердце». Зарев рассказывает историю двойного фиаско: абсолютно вписавшегося в «новую жизнь» бизнесмена Бояна Тилева и столь же абсолютно не вписавшегося в нее писателя Мартина Сестримского. Их жизни воссозданы с почти документалистской тщательностью, снимающей опасность примитивного морализаторства.
