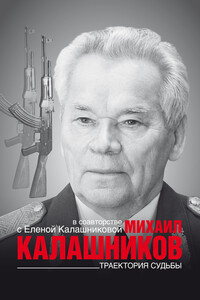Андрея смотрела, как она спускается по лестнице — замедленные движения, в чем-то белом из second hand, она не носила вещи, которые ей покупал Павел, просто Павел не дает мне самой покупать что мне нужно, а ходит со мной по магазинам, в чем-то белом из second hand — одежде, которую она даже не удосужилась постирать и от которой шел характерный запах нищеты, неблагополучия, пахло чем-то чужим, бедностью и превосходством тех, кто дарит такие вещи, превосходством богачей из Европы, их приятными ароматами, хорошими тканями, их самодовольством, ее одежда была белой, впереди на майке — какой-то символ, похожий на «фенечку», символ хиппи столетней давности, за которым она шла когда-то, да и сейчас, вероятно, спутала с этим, на майке, а скорее всего именно потому и купила себе эту майку, отдала за нее целых два лева, что этот нечеткий символ на майке напомнил ей те давние «фенечки». Но если бы Андрея спросила ее — ты подумала, что это символ хиппи и поэтому купила себе эту майку, да? Глупости! Ответила бы Христина, округлив свои огромные голубые глаза с еще более огромными мешками под ними, скажешь тоже, продолжала бы Христина, ты-то откуда знаешь про «фенечки», милая моя четырнадцатилетняя сикушка, что ты знаешь про хиппи, я все знаю, мама, ответила бы Андрея, я все-все знаю — и про их бесформенные тряпки и драные свитера, и про то, что тогда не было джинсов, и про вашу школьную форму знаю, и про то, как вас стригли на пороге школы, как овец, как вы курили тайком, знаю, и про водку «Столичную», не представляю, как только вы ее пили, и про то, как вы собирались у кого-нибудь дома, на «хате», куда вас пускали только до одиннадцати вечера, и про то, как не было маек, не было и пластинок с музыкальными записями, вы называли их «диски». Да, точно — «диски», почти закричала Христина, да, да, мама, знаю, вы тогда еще хвастались: у меня самый последний диск с «Bad Company», например, а ты откуда знаешь о «Bad Company», знаю, мамочка, из разговоров с папой, с вашими друзьями, ведь вы с некоторых пор только об этом и говорите, мама, о дисках, о хатах, о школьной форме и о коммунизме — мама, прошу тебя, не выходи сегодня из дома, почему? спросила Христина, и ее глаза словно остекленели, замерзшие и неподвижные — одна из так пугающих ее неподвижностей, Андрея не смогла ответить, ей казалось, что мать умерла на эти несколько секунд, пока замерзала, она даже не была уверена, что та снова шевельнется, почему это мне не выходить сегодня вечером? удивленно спросила Христина снова, как ни в чем не бывало, я только прогуляюсь, Христина посмотрела на нее как-то странно, я только пройдусь по ночным улицам, ты же знаешь, знаю, мама, ответила Андрея, а я пойду за тобой и буду прятаться, и мне будет страшно от этих улиц, по которым ты идешь, я буду спускаться с тобой в подземные переходы, буду прятаться за деревьями в парках, красться за тобой, следить, в ночных магазинах буду поворачиваться к тебе спиной, а ты, проходя мимо, даже не заметишь, что я рядом, я буду смотреть, как ты озираешься, как прячешь в карман бутылку водки, как снова оглядываешься, такая перепуганная, крохотная, голубоглазая, с огромными мешками под глазами, я буду трястись от страха, только бы тебя не поймали с этой водкой, смотреть, как ты садишься на скамью, как пьешь из бутылки, закуриваешь свою первую сигарету, как все время вокруг тебя трутся какие-то типы и ты предлагаешь им выпить, как кто-то из них, обкуренных, пьяных, садится рядом с тобой, и вы пьете водку из одной бутылки, тогда я устаю прятаться в темноте, в кустах, за каким-нибудь деревом, устаю следить за тобой, я начинаю ненавидеть тебя, я ненавижу так сильно, до боли в желудке, но мне удается не разреветься и не закричать что есть силы в ночной тишине, в нескольких метрах от тебя и твоей случайной компании, почему, почему, ну почему, Господи, ты дал другим детям нормальных матерей, а мне эту тряпку, эту развалину, пораженную неизлечимой болезнью души, почему эта развалина не смогла справиться с какой-то раной в своей душе, ведь другие смогли, почему заливала себя алкоголем, чего ей не хватало, что она хочет, ведь у нее есть я, есть папа, работа, разве этого мало в конце концов, чего еще желать человеку от жизни, и откуда пришла к ней эта болезнь, это несчастье, которое она буквально излучает, эта разруха, разложение, почему ты страдаешь, чего тебе недостает, однажды спросила ее Андрея, чем ты недовольна, ведь у нас все есть, папа работает и получает вполне прилично, почему ты всегда так грустна, мамочка, почему никогда не смеешься, почему так осунулось твое лицо, скажи, прошу тебя, скажи, и Христина ответила: каждое утро я просыпаюсь, как будто меня вытащили из смоляного котла, полного тоски, мне трудно дышать, я реально ощущаю физическую усталость, как будто работала целый день, и все вокруг такое черное, черное, черное, и мне уже не хочется дышать, ничто меня не радует, любая новая мысль только давит на меня все больше и больше, толкает вниз, в этот котел тоски, а я, разве я тебя не радую, спрашивает ее Андрея, нет, не радуешь, не радуешь меня совсем, Андрея, знаешь, чем старше ты становишься, тем больше я жалею, что вообще родила тебя, жалею, что вышла замуж за Павла, жалею, что живу, что вообще родилась, вы двое, ты и Павел, ужасно меня напрягаете и, признаюсь тебе, милая, я иногда, тайком даже от себя самой, представляю, как вы, сразу двое, попали под трамвай, и я, в черных очках, на ваших похоронах, а в глубине души радуюсь, что теперь уже спокойно смогу покончить с собой, не переживая, что мое самоубийство тяжким грузом ляжет на твою душу, твою жизнь, твою судьбу, но, мама, как ты можешь говорить такое! воскликнула Андрея и погладила длинные русые волосы матери, как можно быть такой красивой и такой несчастной, мамочка, ты действительно считаешь меня красивой, спросила Христина, все тебя считают красивой, папа, твои друзья, коллеги, папа даже утверждает, что когда-то раньше все были влюблены в тебя, когда-то, когда-то, повторила Христина, когда-то, а сейчас мне уже не дают номеров своих мобильников, не открывают, когда я прихожу к ним, скрываются, а когда я звоню по телефону, только молчат и просто смотрят, если случается говорить с ними, откуда пришла эта беда, Андрея, это отсутствие радости, наверное, это болезнь, Андрея, это нежелание жить, это отрицание мира и неба, не знаю, Андрея, я даже думаю кому-нибудь заплатить, чтобы меня застрелили, нанять убийцу, ты не можешь так говорить со мной, мамочка, не смеешь так говорить, если ты согласишься застрелить меня, Андрея, девочка моя, ты окажешь мне самую большую услугу, какую только можно оказать матери, ты согласна, Андрея? ты будешь гордиться, что сделала такое доброе дело для своей матери, нет, пожалуйста, я не могу, когда ты плачешь, знаешь, слезами ничему не поможешь, помочь можно только убийством, а все эти слезы твои просто выдумки, есть и лекарство против плача, если ты будешь реветь, а ты плачешь уже целую ночь, я дам тебе одно из моих лекарств, против плача, они убивают плач так, как я просила тебя убить меня! если ты меня убьешь, Андрея, убьешь свою мать, ты будешь не убийцей, а спасительницей матери, я продумаю план моего убийства, разумеется, я бы предпочла, чтобы это сделал профессионал, но ты видишь, твой отец не дает мне и пяти левов на руки, ты думаешь, я не пыталась, не искала киллера, искала и даже встречалась с ним, Андрея, пыталась, пять тысяч евро — таков тариф, половина — до, а другая половина — после убийства, но в моем случае нужна вся сумма сразу, Андрея сползает с кровати, задыхаясь от рыданий, с красными глазами, обессилевшая от слез, и дальше — уже знакомый провал в памяти, результат этого нескончаемого плача и бесконечной тоски от него, причины стерлись из памяти, и — потеря сознания, как будто Христина сумела оторвать кусочек души своей дочери, долго боролась и сумела-таки оторвать его, а сейчас жадно поглощала, вбирала в себя, плотоядно пережевывая, обгладывала этот кусочек души Андреи, может быть, она думала, что это даст ей силы или что она хотя бы сможет заразить своей болезнью и дочь, и тогда бы они вместе болели, вместе погружались в смоляной котел тоски, обреченности и несчастья и вместе выбирались из него, она как будто несла на себе никому не видимый крест, как будто искупала грех, непонятный и ей самой. Голоса Павла и его приятелей эхом отдавались в прихожей, где Андрея провожала маму на ее непонятные ночные маршруты, по которым она уже много лет скиталась и где мечтала о смерти, ее движения были заторможенными из-за лекарств, она спускалась по лестнице медленно и сосредоточенно, крепко держась за перила, на площадке возле лифта она остановилась, открыла дверь, у нее было слишком мало сил, чтобы быстро и ловко войти в лифт, прежде чем его огромная железная дверь толкнет ее, так стукнув по плечам, согнув их, что она потеряет равновесие, Андрея смотрела на все это сверху, и ее сердце сжималось от жалости к матери, к ее лекарствам, ее ночным прогулкам, к тому, что металлическая дверь лифта толкнула ее, так стукнув по плечам, что она потеряла равновесие, Христина виновато обернулась к ней, в ее взгляде читалось: извини, прости, что я такая, даже в лифт не могу войти как все люди, нажала кнопку, лифт пошел вниз, и она исчезла. На улице было лето в самом разгаре, финал первенства мира по футболу, отец Андреи и его гости смеялись в гостиной, холодильник был забит пивом, и никого не удивил и не растревожил уход Христины, Павел и все они смотрели на нее как на неодушевленный предмет или досадную подробность, к которой давно притерпелись, свыклись с этой ее погруженностью в себя, с ее молчанием, ее замедленным кадансом, когда она неуверенно шла через комнату. Если она была с ними, Христина — заторможенная, почти обездвиженная от сильных лекарств — тихо сидела, глядя в пол, как застенчивая школьница, а в сущности, просто засыпала, погруженная в свои бесплодные и мутные сны, из которых еще страшнее ей было выбираться. У Павла давно была любовница, его первая подружка еще по гимназии, его единственная, большая любовь, она уже побывала замужем, развелась, и вот уже несколько лет Павел и Ина снова были вместе, но Павел, как он объяснил Андрее, не хотел разводиться с Христиной, и не потому что любил или жалел ее, а из этических соображений, по которым он не мог бросить жену в таком состоянии. И все это он сказал дочери. Как-то вечером он взял ее с собой в ресторан и там объяснил ей, что никогда не любил ее мать, и вообще не знает, зачем женился. Хотя, впрочем, знаю, знаю, продолжал Павел, и сейчас скажу тебе: потому что Ина, моя большая и единственная любовь, вышла замуж, и когда мы с ней расстались, я ужасно ревновал, потом у нее родился ребенок, а я тоже хотел иметь семью, жену и ребенка, чтоб я был как Ина — серьезный человек, семейный, ответственный, такой, как Ина, я хотел отомстить ей, хотел, чтобы она меня ревновала и была так же несчастна, как и я, вот я и женился на твоей матери, скоро и ты родилась, а я стал серьезным, семейным и солидным человеком, но не переставал думать об Ине, следить за ее жизнью, видеть ее хоть изредка и все больше любить, ревновать, я хотел причинить ей боль, отомстить, но быть с ней, любить и ласкать ее, жить с ней, иметь от нее детей, много детей. Мне очень жаль, ответила ему Андрея, жаль, что у тебя лишь один ребенок, да и тот не от Ины, а от Христины, жаль, папа, что именно я досталась тебе, жаль, что родилась, нет, нет, не плачь, побледнел Павел, ты не так меня поняла, Андрея, действительно не поняла, все на нас смотрят, прошу тебя, тише, очень прошу, давай выйдем на улицу, и Андрея, шатаясь, вышла из ресторана под удивленные и сочувственные взгляды посетителей, вскоре вышел и Павел, он догнал ее, обнял, встряхнув, за плечи, и Андрея увидела, что он тоже плачет, не может говорить, задыхаясь от слов, только что им произнесенных, Андрея, девочка моя, доченька, он гладил ее по голове, сможешь ли ты простить меня, скажи, сможешь ли ты когда-нибудь простить, и его плечи содрогались от рыданий, он прижимал ее к себе, я сейчас сломаюсь и останусь в его руках, думала про себя Андрея, и его борода царапала ей щеки и глаза, которые он осыпал поцелуями, я обещаю, клянусь небом, клянусь, моя девочка, обещаю, что никогда, никогда, никогда у меня не будет другого ребенка, только ты, только прости меня, Андрея, моя девочка, и они пошли по летним улицам, держась за руки, обнявшись, обновленные и чистые, будто только что встретились и узнали любовь. После того дня Ина познакомилась с их общими друзьями и постепенно стала самым близким для их семьи человеком, любимой подругой, она замещала Христину на всех днях рождения, week-end’ах, Рождествах и Пасхах, а Христина оставалась дома, у своего любимого кактуса, не совсем адекватная от медикаментов, она сидела, глядя в одну точку, равномерно покачиваясь, как обычно это делают все сумасшедшие, в плену голосов с океанского дна, которые что-то ей говорили, и видений из ада скорби, которые кружились вокруг, наедине с черной жутью своих бездонных депрессий, которые, словно ядовитые пауки, опутывали все вокруг, всасывая и ее, Христину, и кресла, и ковры, и обои, и ее глаза, такие голубые и прозрачные когда-то; ее безутешность и ужас, ее скорбь и болезнь гнали Павла и Андрею из дома, они садились в машину, заезжали за Иной с ребенком и все вместе ехали куда-нибудь обедать, лишь бы подальше, дальше, дальше от города и Христины, Андрея и дочка Ины играли вместе, они даже придумали свою игру — кто в какой банде, каком клане Counter strike состоит, у кого больше бойфрендов, кто куда ездил на море, у кого какие «линки» в NET-е, кто с кем «чатится», Павел и Ина в это время допивали бутылку красного, курили, всегда держась за руки и не отводя глаз друг с друга, а дети старались не приближаться к их столику, чтобы ненароком не повредить кокон любви, обволакивающий Павла и Ину — единственное, что давало им, детям, ощущение покоя и тепла. Когда после обеда они возвращались домой, то заставали Христину в той же позе, в том же положении — взгляд в одну точку, иногда время, прошедшее за их отсутствие, можно было вычислить лишь по числу окурков в пепельнице, и тогда Андрея снова начинала просить отца перестать давать маме эти сильнодействующие препараты, оставить только поддерживающие, чтобы она могла хотя бы двигаться, хотя бы говорить, чтобы не убивать совсем ее мозг, но в таком случае ее заберут в больницу, говорил Павел, я надеюсь, никто здесь не хочет, чтобы ее забрали в больницу, нет, кричала Андрея, никто не хочет, чтобы ее забрали в больницу, ну а тогда мы должны давать ей большие дозы сильнодействующих препаратов, которые будут сбивать ее приступы, потом еще один месяц она останется в этом же состоянии, к зиме приступы прекратятся, и тогда мы сократим ее дозы до обычного уровня, хорошо, папа, соглашалась Андрея, и они вместе принимались раздевать Христину как старую уродливую куклу, потом натягивать на нее пижамные брюки, запихивать ее безвольные руки в рукава куртки, вели в ванную, давали в руки зубную щетку и велели ей чистить зубы, она стояла неподвижно с щеткой в руке, глядя на свое отражение в зеркале над раковиной, почисть зубы, почисть зубы, Павел начинал кричать, Христина, ты слышишь меня, почисть зубы, от тебя несет, вся провоняла, даже белье не меняешь, не моешься, рядом с тобой уже и находиться нельзя, мамочка, милая, ну прошу тебя, почисть зубы, шептала ей в ухо Андрея, папа взбешен, папа уже не может тебя выносить, потому что от тебя плохо пахнет, он не может спать с тобой в одной комнате, потому что ты очень воняешь, он уже давно спит на диване в гостиной, потому что ты не чистишь зубы, и совсем не высыпается, страшно изнервничался, при этих сокрушительных доводах Христина вынимала свои искусственные челюсти, открывала кран и начинала ожесточенно чистить зубы щеткой, выдави хоть немного пасты на протезы, тихо говорил Павел, его голос ломался, ломался надвое, а глаза тяжело и мрачно следили за движениями Христины, усердными движениями ее рук, сейчас она терла, терла, терла свои розовые протезы, переворачивала и снова терла их с обратной стороны, пока Павел не вырывал их из ее рук и, сполоснув, снова не запихивал их ей в рот, в огромных голубых глазах Христины появлялся ужас, когда Павел вырывал из ее рук протезы, ужас от его сильных рук, пытающихся раскрыть ей рот, ужас от непонятных слов, от его сильного голоса, от успокаивающего шепота Андреи, от гулких голосов в ванной, они слипались в какой-то огромный тяжелый ком, который бился в ее мозгу, этот ком из голосов выл и бесновался, напоминая ванную комнату в больнице, где ее, голую, мыли из шланга, ее и еще несколько таких же, как она, их грубо раздевали, и они стояли совсем голые, пока кто-то из санитаров не начинал поливать их из шланга сильной струей, намыливать щеткой на длинной ручке, потом пускали воду на полную мощность, и все кричали, инстинктивно повернувшись спиной, потому что струя была очень сильная, а санитар этой сильной струей бил их по спинам, как плеткой, шарил по всему телу — между ног, по подмышкам и ступням, по волосам, а потом их укутывали в белые простыни, банных халатов не было, и разводили по палатам, велев вытираться и ложиться спать.