Смуглая дама из Белоруссии - [25]
— Сбереги ее до Германии, — сказал полицейский и подмигнул.
Наконец я добрел до призывного пункта, сел на вещмешок и принялся ждать. Вокруг висели призывные плакаты. Дядюшка Сэм указывал на меня своим костлявым пальцем, и мне чудилось, что он твердит: «Фейгеле, Фейгеле, Фейгеле».
Человек, который молодел
Переводчик Бернштейн с опаской — вдруг там паук или крыса — шагнул на первую из сорока девяти ступеней, ведущих к Мишиной комнате. На двадцать шестой он остановился, достал из жилетного кармана скомканный носовой платок.
— Миша, Миша, — жалобно пробормотал он и, прижав отечную руку к груди, сосчитал пульс.
На голом его затылке пролегла длинная борозда. Бернштейн не сомневался: эти сорок девять ступеней его прикончат. Угораздило ж его связаться с издателями и поэтами. Дьявол побери эту лестницу!
Бернштейн вкрадчиво постучался к Мише. Волноваться не стоило. Если подождать подольше, Миша в итоге откроет. Чтобы убить время, Бернштейн разговорился сам с собой. Обложил проклятиями Мишу, издателя Попкина, себя — за то, что не стал галантерейщиком. Мысленно сварил Мишу с Попкиным, Пушкина с Перецом[48], Гоголя с Шолом-Алейхемом в огромном закопченном котле. Внезапно дверь распахнулась, и перед Бернштейном очутилось бледное лицо. Кустистыми усами и раздвоенным подбородком Миша напомнил Бернштейну зловещего валета пик из самодельной колоды карт, виденной им однажды у одноглазого армянина.
— Ну? — сказал Бернштейн. — Войти-то можно?
И прошаркал в комнату. На письменном столе у самой двери из треснутой банки торчали шесть-семь черных ручек без перьев. Возле банки стоял пузырек чернил с резиновой крышечкой, лежало перо. На узкой скамье позади стола лежала тетрадь с наскоро разлинованными страницами. Бернштейн навис над трубой парового отопления — отогревал руки. Рядом с трубой помещались унитаз с щербатым стульчаком и громадное деревянное корыто — Мишина ванна. Вдруг у Бернштейна отвисла челюсть, он сорвался с места. И с криком: «Разбойник!» — погнался по комнате за тараканом.
Миша снял с пузырька крышечку, выбрал ручку. Таракан удрал, Бернштейн сел на стульчак и задумался. Скрип Мишиного пера по бумаге заставил его встрепенуться, и, облокотившись о колени, он принялся раскачиваться взад-вперед. Ждал, когда Миша отложит ручку, но та все скрипела и скрипела.
— Миша, я снова разговаривал с Попкиным. Миша…
Он резко сдвинул колени.
— Миша, мне шестьдесят семь лет. Думаешь, самое время искать другую работу?
Он повернулся к трубе, пожаловался ей:
— Второго такого шанса больше не будет, а он уперся!
Он сумрачно глянул на Мишу и снова стал раскачиваться.
— Спору нет, ты, конечно, можешь позволить себе привередничать! Вдова Розали тебя обихаживает. Но не всем же быть поэтами. А мне вот никакая вдова подштанники не стирает. В конце концов… Миша!
Всей своей сутулой спиной Миша отгораживался от натиска Бернштейна; склонившись над столом, он продолжал писать. Бернштейн решил зайти с другой стороны. Он не отчаивался, он знал: человек Миша уязвимый. Поэтому Бернштейн поднялся и двинулся в обход вокруг стола. Мишино лицо посуровело, но рука, державшая ручку, слегка задрожала. Бернштейн вцепился в край столешницы и уставился на него. Ручки без перьев в треснутой банке задребезжали.
— Миша, я работаю с тобой сорок лет. Сорок! Я был тебе агентом, другом, переводчиком, отцом!
Он простер левую ладонь с раздутыми пальцами.
— Я пять лет ходил в вечернюю школу, чтобы выучить английский и переводить твои рассказы и стихи. Помнишь, Миша, как я бегал на Генри-стрит под снегом и дождем — без калош, без шарфа, без пальто, а учебник, чтобы не промок, прятал под рубашкой? Я для себя это делал, Миша, а? Как бы не так! Тебя, когда ты сидел у Раттнера или в «Ройяле», называли: «Миша Дубринов, еврейский Лермонтов!» А надо мной все смеялись. Видели меня с учебником по грамматике и дразнили ешиве бохер. В конце концов, кому нужен Бродвей, если есть Вторая авеню?[49] А ведь я предупреждал тебя, и Шмулку, и Бориса. Погодите, говорил я, погодите. Через десять лет с Деланси-стрит все съедут и ваши стихи и пьесы станут читать разве что клопы со вшами. Я не вполне угадал. На это понадобилось не десять, а тридцать лет! Миша…
Миша отложил ручку и закрыл чернила. Бернштейн приблизил к нему взопревшее лицо.
— Двадцать лет я гоняюсь за Попкиным. «Попкин, — говорю я, — я знаю, ты печатаешь книги лишь на английском. Разве кто тебя упрекнет? Ты, в конце концов, бизнесмен. Но дай тогда я переведу пять-десять Мишиных рассказов, сварганим из них книжку, и я тебе обещаю: я лично продам десять тысяч экземпляров. Миша ж ведь король Деланси-стрит. Все его обожают!» — «Нет, — говорит он, — нет. Еврейские поэты никому не нужны!» — «Попкин, в моем переводе это будет второй Шекспир». — «Хватит с нас, — отвечает, — и одного Шекспира». Ну так я шлю ему письма, записки, телеграммы, по три раза на неделе названиваю по телефону, проклинаю, угрожаю, а все без толку. Завидят меня у дверей — и запираются. А он полицией грозит. А потом вдруг — на поди — все начинают зачитываться Перецом и Башевисом Зингером, еврейские поэты входят в моду, и теперь уже он шлет мне телеграммы и записки. Миша, я знаю, он мерзавец, но издатель есть издатель!

Роман о реально существующей научной теории, о ее носителе и событиях происходящих благодаря неординарному мышлению героев произведения. Многие происшествия взяты из жизни и списаны с существующих людей.
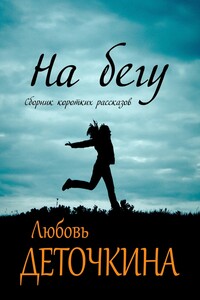
Маленькие, трогательные истории, наполненные светом, теплом и легкой грустью. Они разбудят память о твоем бессмертии, заставят достать крылья из старого сундука, стряхнуть с них пыль и взмыть навстречу свежему ветру, счастью и мечтам.
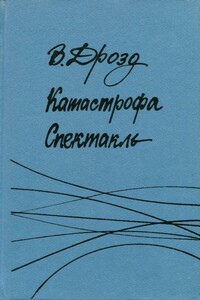
Известный украинский писатель Владимир Дрозд — автор многих прозаических книг на современную тему. В романах «Катастрофа» и «Спектакль» писатель обращается к судьбе творческого человека, предающего себя, пренебрегающего вечными нравственными ценностями ради внешнего успеха. Соединение сатирического и трагического начала, присущее мироощущению писателя, наиболее ярко проявилось в романе «Катастрофа».

Сборник посвящен памяти Александра Павловича Чудакова (1938–2005) – литературоведа, писателя, более всего известного книгами о Чехове и романом «Ложится мгла на старые ступени» (премия «Русский Букер десятилетия», 2011). После внезапной гибели Александра Павловича осталась его мемуарная проза, дневники, записи разговоров с великими филологами, книга стихов, которую он составил для друзей и близких, – они вошли в первую часть настоящей книги вместе с биографией А. П. Чудакова, написанной М. О. Чудаковой и И. Е. Гитович.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
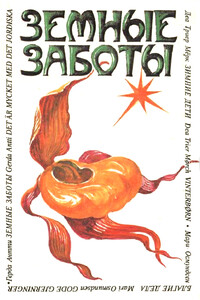
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.