Русские - [172]
Наблюдается парадокс: несмотря на то, что русские уверены в моральном превосходстве своей нации, большая часть трескучего хвастовства советской прессы о том, что Советскому Союзу принадлежат самые первые, самые грандиозные и самые лучшие свершения во всех мыслимых областях, направлена, по-видимому, на компенсацию глубоко укоренившегося чувства национальной неполноценности по сравнению с Западом в области науки, техники и экономики и в современных практических достижениях. Это Сталин сделал фетишем безмерно раздуваемое превосходство русских во всех областях, несмотря на то, что сам же откровенно говорил об отставании России и о стремлении это отставание преодолеть. В его время шовинистическое преувеличение русских достижений доходило до смешного; в энциклопедиях писали, что радио изобрел Александр Попов, а не Маркони, что честь изобретения электрической лампочки принадлежит не Томасу Эдисону, а Александру Лодыгину, что Иван Ползунов построил первый паровоз на 21 год раньше, чем Джемс Уатт, а Александр Можайский, запустив в небеса свой первый самолет, оставил далеко позади братьев Райт. После смерти Сталина такая официальная политика провозглашения приоритета России во всех областях несколько пошла на убыль. Но традиция осталась и до сегодняшнего дня, о чем свидетельствуют многие публикации. Горожане — представители интеллигентных профессий, с их снобистским предпочтением всего западного, нередко подшучивают над таким вопиющим шовинизмом и саркастически острят: «Россия — родина слонов». Но во всех слоях советского общества весьма живуче сильное, традиционно русское убеждение, что «наше — лучше». Эта фраза часто проскальзывает в разговорах, и нередко без особой надобности. Как-то вечером, поднимаясь в лифте гостиницы «Интурист» на большой международный прием, я слышал разговор двух женщин средних лет, восхищавшихся вечерними туалетами некоторых молодых советских женщин, приехавших на этот прием. Хотя одеты они были не так элегантно, как некоторые иностранные гостьи, поднимавшиеся в том же лифте, эти две женщины, преисполненные гордости, раскудахтались: «Разве наши девушки — не прелесть?» — с умилением проговорила одна. «Конечно, наши лучше всех», — откликнулась ее собеседница стереотипной фразой. О том, насколько автоматически высказывают консервативно мыслящие официальные лица и рядовые граждане эту мысль — идет ли речь о девочках, о плотинах, о завоеваниях космоса, о тракторах или о хоккейных командах, — свидетельствует успех анекдота, рассказываемого более космополитически настроенными молодыми людьми, о партийном деятеле, жена которого обнаружила, что у мужа есть любовница-балерина. Жена настояла на том, чтобы пойти в Большой театр и посмотреть на свою соперницу. Только успели они усесться в ложе вместе с другими высокопоставленными лицами, как занавес поднялся и на сцену выпорхнула изящная девушка-лебедь. Жена подтолкнула мужа и спросила: «Это она?» «Нет, — ответил он, — это любовница Петрова». «Хорошо, — сказала жена, — а то у нее слишком тонкие ноги». Немного погодя жена указала на другую украшенную перьями балерину и обратила к мужу вопрошающий взгляд. «Нет, — ответил муж, — это любовница Иванова». «Хорошо, — сказала жена, — у нее некрасивое лицо». Наконец, муж указал на балерину, стоявшую в глубине сцены. Жена оглядела молодую танцовщицу и с самодовольной улыбкой откинулась в кресле, успокоенно воскликнув: «Наша — лучше».
Это национальное самоуважение независимо от обстоятельств усиливается чувством викторианской гордости за мощь и достижения Советского Союза. Володя, молодой человек, делающий партийную карьеру, выразил это в форме шовинистического высокомерия по отношению к немцам и другим нациям, зависящим от советского газа и нефти. Мой друг, английский дипломат, часто бывавший в Восточной Германии и время от времени беседовавший там с русскими солдатами, пришел к выводу, что они завидуют уровню жизни немцев, но тем не менее чувствуют свое превосходство над ними, словно ощущение себя частицей мощи Москвы компенсирует все. Лишь ничтожная горстка инакомыслящих вышла на Красную площадь с протестом против советского вторжения в Чехословакию. Они были арестованы раньше, чем сумели развернуть свои транспаранты. Намеки на неодобрение советской политики со стороны некоторых занимающих хорошее положение представителей интеллигентных профессий содержатся в повести Натальи Баранской «Неделя как неделя», героиня которой предлагает мужу обсуждать такие серьезные проблемы, как «Вьетнам и Чехословакия». Прозорливые интеллигентные советские читатели поняли это как ловко замаскированную попытку диссидента поставить знак равенства между вторжением СССР в Чехословакию и Америки — во Вьетнам. Но на основном фоне безразличия народных масс к вторжению в Чехословакию наблюдалась и явная гордость многих за то, что Советский Союз продемонстрировал свою мощь (подобно тому, как в XIX веке англичане гордились способностью Англии сохранять свое положение империи), потому что сила — это один из атрибутов сверхдержавы. Один мой знакомый русский писатель отдыхал в Сочи в августе 1968 г., когда о советском вторжении в Чехословакию советские граждане начали узнавать из передач западных радиостанций. «Вокруг меня люди были счастливы тем, что произошло, — вспоминал он. — «Наконец-то, — говорили они, — наши войска вошли в Чехословакию. Давно пора было. Теперь надо идти дальше и проделать то же самое в Румынии». Эти люди были рады, что Россия применила свою силу, к которой они относятся с большим уважением. Им нравится, когда Россия демонстрирует мощь». Геннадий, совхозный бухгалтер, говорил, что тоже ощущали руководители и рабочие его совхоза: «Они поверили гигантской и грубой лжи, будто Советский Союз вошел в Чехословакию, чтобы защитить тамошний народ, — сказал он. — Для них это (интервенция) — еще одна причина гордиться своей нацией». Другой мой приятель, молодой научный работник, философствовавший по поводу националистического пыла, вспоминал, как он лежал в больнице в одной палате с шофером, который в период вторжения в Чехословакию был водителем танка, прошедшего по Праге. У моего приятеля сложилось мнение, что шофер этот был в общем-то славный парень, но в своем патриотизме был так же слеп и жесток, как американские солдаты в Малайзии. Шофер рассказывал научному работнику, как он и его товарищи убивали чехов и словаков за малейшее проявление того, что им казалось сопротивлением. Стоило местному жителю появиться на крыше дома и показаться подозрительным экипажу танка, «мы наводили на дом пушку и сносили крышу», — рассказывал шофер. Научный работник, в душе не одобрявший интервенцию, высказал несколько неодобрительных замечаний по поводу бессмысленных убийств, но шофер, охваченный своим
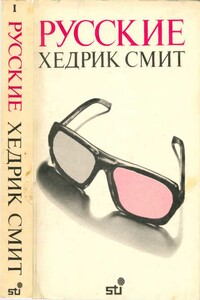
Хедрик Смит, получивший премию Пулицера в 1974 г. за репортажи из Москвы, является соавтором книги “The Pentagon Papers” и ветераном газеты ’Нью-Йорк таймс”, работавшим в качестве ее корреспондента в Сайгоне, Париже, Каире и Вашингтоне. За время его трехлетнего пребывания в Москве он исколесил Советский Союз, "насколько это позволяло время и советские власти.” Он пересек в поезде Сибирь, интервьюировал диссидентов — Солженицына, Сахарова и Медведева; непосредственно испытал на себе все разновидности правительственного бюрократизма и лично познакомился с истинным положением дел многих русских.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

Опубликовано в журнале «Арт-город» (СПб.), №№ 21, 22, в интернете по адресу: http://scepsis.ru/library/id_117.html; с незначительными сокращениями под названием «Тащить и не пущать. Кремль наконец выработал молодежную политику» в журнале «Свободная мысль-XXI», 2001, № 11; последняя глава под названием «Погром молодых леваков» опубликована в газете «Континент», 2002, № 6; глава «Кремлевский “Гербалайф”» под названием «Толпа идущих… вместе. Эксперимент по созданию армии роботов» перепечатана в газете «Независимое обозрение», 2002, № 24, глава «Бюрократы» под названием «“Чего изволите…” Молодые карьеристы не ведают ни стыда ни совести» перепечатана в газете «Санкт-Петербургские ведомости», 29.01.2002.

Полный авторский текст. С редакционными сокращениями опубликовано в интернете, в «Русском журнале»: http://www.russ.ru/pole/Pusechki-i-leven-kie-lyubov-zla.
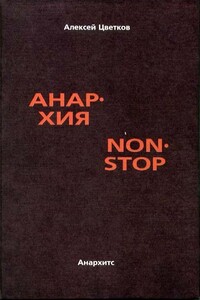
Анархизм, шантаж, шум, терроризм, революция - вся действительно актуальная тематика прямого политического действия разобрана в книге Алексея Цветкова вполне складно. Нет, правда, выборов и референдумов. Но этих привидений не встретишь на пути партизана. Зато другие духи - Бакунин, Махно, Маркузе, Прудон, Штирнер - выписаны вполне рельефно. Политология Цветкова - практическая. Набор его идей нельзя судить со стороны. Ими можно вооружиться - или же им противостоять.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.