Предчувствие - [68]
Речь по-прежнему будет идти о комнате, в которой он вознамерится прожить некоторую часть грядущего. О хранилище будущих мыслей, жестов, слов, ударов, об их неприметном сиянии, об их спешных, чернеющих вихрях. События, о которых мы не расскажем. Комната, в которой он превратится в невидимую скульптуру. Но не умирая. Сохраняя шанс вернуться в жизнь. Если здесь будет уместен разговор о возвращении. Чем станет это дление после момента, который ознаменует завершенность всего прежде считавшегося жизнью? Будет ли этот отрезок жизнью?
Отсутствие мыслей продолжит гудеть в голове. Голоса не перестанут раздаваться из темноты. Их беспрерывный гомон. Их вкрадчивое шевеление. Будут сплетаться, наслаиваться друг на друга, почти затихать, почти возобновляться. Гибнущие, но никогда не умирающие до конца, всегда сохраняющие шанс воскреснуть. Диалоги или, вернее, перекрестные монологи. Он угадает их присутствие. Их тихий шум продолжит колыхаться. Как страницы перелистываемой книги. Да, вся комната будет заполнена тенями и звуками. И никто не сможет остановить их. Примутся топать в такт друг другу. Никуда не денутся. Взревут. Будут неустанно маршировать под закрытыми вéками. Того и гляди прорвут их. Да, толпы никуда не исчезнут, невыносимая толчея продолжится, почти такая же, как в плацкартном вагоне, как в метро, как в подвальных кафе. Но, конечно, никаких лиц. (Лишнее уточнение.) Голоса, повторяющие какую-то ерунду. Талдычащие невесть что. Никогда не угадаешь заранее, что они скажут. Но этот гул – скорее всего, он важнее смысла. И гул непременно будет дробиться, разрежаться, редеть, но никогда не стихнет. Зачем-то эта категоричность. Пусть она сохранится.
Интонации будут очень похожими, словно все нарочно примутся подражать одному и тому же голосу. Повторять все его паясничанья и кривлянья. Петр узнает его: это голос, отнявший мысли. Неужели хранители голоса сейчас войдут и вытолкают Петра наружу? Изгонят из рая (если на мгновение поверить, что это рай). Войдут? Разве они еще не здесь? Или крики донесутся из-за двери? А вдруг они не заметят его? Разве что до поры, а потом, скоро, очень скоро он будет обнаружен и не сможет сопротивляться. Ведь у него не останется сил. Но это потом, а пока он продолжит корчиться в темноте, на грязном полу, слушать их голоса, их частое дыхание, перебирать мысли, которые никогда не удастся додумать. Всматриваться в звезды, сияющие из будущего. Должно быть, давно мертвые. Он будет смеяться в темной комнате. Один. А все это продолжит уходить из памяти, пожалуй даже забудется наконец. Неужели эта комната в конце концов будет покинута историей? Неужели это свершится? Да, он больше не вспомнит ни далекого городка, ни длинного пути, ни детства, ни людей, пытавшихся научить его чему-то, ни стихов, ни ходячих призраков, он потеряет саму способность вспоминать. Даже обрывки. Даже самое ценное. Легко представить.
Станет смотреть не то сквозь стены, не то вовнутрь себя. Подумает, что комната не так уж мала. Да, она и вправду будет огромна. Снова примется ходить из угла в угол, от стены к стене, от двери к окну, от стены к двери, от окна к стене, из другого угла в другой угол. Что ж, найдется множество занятных вариантов. Так сразу все и не перечислишь. От изобилия не удастся скрыться. И все же количество не будет бесконечным. К большому счастью. Но главные вопросы, повторим, останутся теми же. Хуже того – окажутся еще более острыми. Теперь их негде будет спрятать. И радость не станет менее радостной, и тоска не будет менее тоскливой, и ярость не захочется назвать менее яростной, а пустота не покажется более пустой. Тишина, звон. Все продолжит длиться.
Его на секунду привлечет стук стекла, дрогнувшего в раме. Еще один звук чего-то неживого, благодаря которому он узнает нечто новое о себе. Едва ли не каждый звук будет приносить что-то новое. Наверное, он все-таки вспомнит о Никоне. Мы этого не узнаем. Нас это не коснется. Отметим лишь позвякивание стекла, похожее на воспоминание.
Упадет на кровать, сядет на стул, снова поднимется и начнет ходить по комнате – от окна (прикоснется рукой к стеклу) к стене, от стены (прикоснется рукой к обоям) к стене (прикоснется рукой к обоям) и так далее – по давно знакомым маршрутам. Ляжет на пол, потом встанет на стул и дотронется рукой до потолка, проведет пальцами по трещинам облупившейся штукатурки (характерный звук рассыпания ошметков). В комнате отыщется бесчисленное количество занятий. Повторение, которое вроде бы должно будет превратить все в прошлое, упрямо станет указывать в обратном направлении, раз за разом обнаруживая невозможность повторения, указывая на (пусть и едва приметную) новизну еще не случившегося. Будущее, а не прошлое – вот в чем обнаружится истинная невыносимость (или, если вам угодно, надежность) бесконечного повторения. Расстояние до потолка покажется многокилометровым.
Между тем за окном продолжит шевелиться бесцветный город. Там будут вещи, деревья, звери, птицы, наверное даже люди. Клубящиеся хлопья снега. Нет, теперь за стеной будет солнечно. Всплеск цветения. Прохожие в темных очках, шортах. Люди с теннисными ракетками. Они будут водить хороводы, там, под окном. Но как им удастся делать это, не выпуская ракеток из дрожащих рук? Вопрос вопросов. И опять – опровергающие друг друга звуки: шорох пальцев, скребущих по книге (давно закрытой), пронзительное эхо тромбона, длинные звенящие ноты (музыкант во дворе? или скорее снова что-то роящееся в памяти), далекий гул автомобилей, вой ветра. В пустоте города. В купе остановившегося поезда. Предметы затаятся в углах. Предметы затаятся у стен. Восставшие, тревожные вещи. Ноздреватый, зияющий черными пустотами снег. Крики толпы. На мгновение померещится площадь казни, палач, размахивающий отрубленной головой на радость зевакам, шелковая шаль королевы, развевающаяся на холодном ветру, как революционное знамя. Нет, все это ни к чему. Пусть лучше будут люди с зонтами. Апрель? Нет, уже октябрь. Туман, липнущий к оврагам, к стволам, к заилившейся речке, к морю. Услышит волны, они откажутся леденеть, они будут сопротивляться. Шалые воды. Что-то запузырится между пальцами. Запах перегнившей хвои, смолы и соли. Блестящие, отлакированные дождем ветки. Его промокшая шляпа. Какая еще шляпа? Упаси бог! Это будет уже слишком. Что прикажете думать о подобном? Скажите еще – канотье. С ума сойти. Сколько непредвиденных поводов для смеха. Внезапно за окном раздадутся два противоречащих друг другу звука: скрежет убирающей снег лопаты и звон капели. Какому из них поверить? Нет, не станет выглядывать. Не попадется на эти уловки. А люди побегут, не оборачиваясь, не тратя сил на крики, потом в изнеможении упадут на асфальт, спрятав головы в ямы. Наконец улицы совсем опустеют, не останется никого, даже птиц, все следы засыплет снегом. Потом покажется, что вокруг больше нет города. Только обломки фасадов, только руины и лишь каким-то чудом выживший дворик, продолжающий делать вид, что до войны еще далеко (декорации словно примчатся из письма Никона). Все вокруг уже будет лишено имен, превратится в залитый дымящимся гудроном резервуар. Несколько клочков неба между разрушенными зданиями. Впрочем, бойня давно закончится. Да, город нужно будет выстроить заново, дать ему новое имя. Теперь уже не будет вопроса, чем бы завершить. Он займется всем этим, но позже. Серый снег, ветер, иней, почти пустая комната. Комната. Ее все еще будет вполне достаточно. Даже слишком много. Чересчур много. Как ее уменьшить? Перечитает ненаписанные главы. Их снова будет не хватать. Вообще говоря, роман окажется не так уж велик. Нет, никакого чтения. Никакого чтения. Не станем забывать об этом. Просто скорчится на полу. Прислонится затылком к стене. Потихоньку станет биться об нее головой. Да, все будет бесконечно пытаться начаться. Комната вместит мир. Расползаясь по швам, мир начнет без конца проговаривать себя, полыхать. Или не начнет даже этого. За окном беззвучно и беспрерывно продолжит падать снег.

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
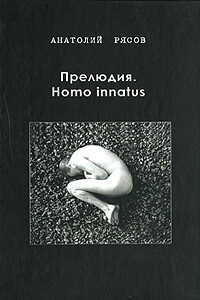
«Прелюдия. Homo innatus» — второй роман Анатолия Рясова.Мрачно-абсурдная эстетика, пересекающаяся с художественным пространством театральных и концертных выступлений «Кафтана смеха». Сквозь внешние мрак и безысходность пробивается образ традиционного алхимического преображения личности…
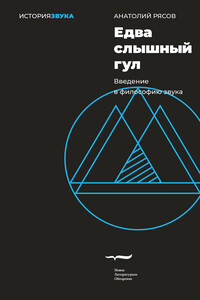
Что нового можно «услышать», если прислушиваться к звуку из пространства философии? Почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства, а чаще и вовсе не покидает территории техники? Эти вопросы стали отправными точками книги Анатолия Рясова, исследователя, сочетающего философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна «Мосфильм». Обращаясь к концепциям Мартина Хайдеггера, Жака Деррида, Жан-Люка Нанси и Младена Долара, автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноменологического дискурсов, но одновременно – как загадочные лакуны в истории мысли.
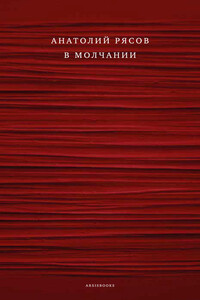
«В молчании» – это повествование, главный герой которого безмолвствует на протяжении почти всего текста. Едва ли не единственное его занятие – вслушивание в гул моря, в котором раскрываются мир и начала языка. Но молчание внезапно проявляется как насыщенная эмоциями область мысли, а предельно нейтральный, «белый» стиль постепенно переходит в биографические воспоминания. Или, вернее, невозможность ясно вспомнить мать, детство, даже относительно недавние события. Повесть дополняют несколько прозаических миниатюр, также исследующих взаимоотношения между речью и безмолвием, детством и старостью, философией и художественной литературой.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.

Однажды окружающий мир начинает рушиться. Незнакомые места и странные персонажи вытесняют привычную реальность. Страх поглощает и очень хочется вернуться к привычной жизни. Но есть ли куда возвращаться?

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.
