Предчувствие - [64]
Эпизод двадцать второй,
продолжение череды предуведомлений
Позже. Еще через какой-то промежуток времени, если представить, что в делении жизни на отрезки еще останется смысл. Снег начнет осыпаться разлапистыми хлопьями, складывать свою ослепительную, сонную, однообразную, бесконечную мозаику. Медленно, мерно, беззвучно. За узким, вытянутым окном, в которое не будет нужды выглядывать. Косо падающие клочья снега. Разрезанный на сверкающие лоскуты занавес. Спасаясь от метели, прохожие пригнут головы, поднимут бесполезные воротники. Снова и снова их неловкие жесты, их тени. Оттиски хрустящих следов на выбеленных тротуарах. Нетрудно вообразить все это. На самом же деле слишком стемнеет, мокрые хлопья почти не будут видны, только изредка – в коротких фонарных вспышках, из-за которых снег покажется желтым; и так раз за разом, в нелепой, бестолковой игре; словно кому-то покажется забавным на мгновение зажечь их и снова погасить. Всполохи помогут заблудившимся найти дорогу к дому или, наоборот, вконец запутают, сделав все переулки похожими друг на друга. Из-за странных зарниц жидкая темнота приобретет странный блеск, словно треплемый ветром бархатный занавес начнет плясать перед глазами. Он не станет выглядывать в окно. Стены склонятся, заслонив тусклое небо. Приватная неясность наконец растворится во всеобщей неопределенности. Да, будет так.
Время, которое не станет сдвигаться с места, изменяться, останется тем же самым, и как раз уловить это тождество окажется самым трудным – такое скучное для тех, кому нужно хотя бы малейшее, в идеале постоянное разнообразие. Здесь же, наоборот, понадобится продумать скуку, неисчерпаемость повторения, его новизну, его уникальность, его безнадежный триумф. Бесконечное, многообразное повторение одного и того же. Различие как разновидность повторения. Да, да, он станет без конца твердить одну и ту же историю (не столь уж длинную) про темную комнату, потому что нет и не будет другой. Нет, не историю, просто повествование, просто рассказ, просто речь. Конечно, все сказанное останется ничтожно малым по сравнению с несказанным. Да, заранее осознанная несостоятельность замысла. Предельная чистота его возможности. Изумленная тревога. Растерянность. Замешательство. Достаточно.
Да, будет так. Приватная неясность наконец растворится во всеобщей неопределенности. Стены склонятся, заслонив тусклое небо. Он не станет выглядывать в окно. Из-за странных зарниц жидкая темнота приобретет странный блеск, словно треплемый ветром бархатный занавес начнет плясать перед глазами. Всполохи помогут заблудившимся найти дорогу к дому или, наоборот, вконец запутают, сделав все переулки похожими друг на друга. На самом же деле слишком стемнеет, мокрые хлопья почти не будут видны, только изредка – в коротких фонарных вспышках, из-за которых снег покажется желтым; и так раз за разом, в нелепой, бестолковой игре; словно кому-то покажется забавным на мгновение зажечь их и снова погасить. Нетрудно вообразить все это. Оттиски хрустящих следов на выбеленных тротуарах. Снова и снова их неловкие жесты, их тени. Спасаясь от метели, прохожие пригнут головы, поднимут бесполезные воротники. Разрезанный на сверкающие лоскуты занавес. Косо падающие клочья снега. За узким, вытянутым окном, в которое не будет нужды выглядывать. Там, за стеной. Медленно, мерно, беззвучно. Снег начнет осыпаться разлапистыми хлопьями, складывать свою ослепительную, сонную, однообразную, бесконечную мозаику. Еще через какой-то промежуток времени, если представить, что в делении жизни на отрезки еще останется смысл. Позже.
Он постарается вспомнить все когда-либо прочитанное о времени (все эти мерцающие в темноте переплеты). Можно попробовать и написать если и не о времени, не по поводу непонимания времени, то хотя бы попробовать установить некоторые положения нашего поверхностного ощущения времени: почему-то среди всех возможных возникнут именно эти слова, записанные не философом, а поэтом. Покажутся ценнее многих. Отныне не история, а блуждание наугад, случайно приводящее в так называемую точку назначения, достигать которой, честно сказать, не будет особенного смысла. Но тут же – и ощущение того, что все только еще намерено сбыться. Потому что у литературы тоже не будет никаких ясных направлений. Шахразада продолжит говорить и после смерти Шахрияра. Если начистоту, ее глоссолалиям вообще не будет дела до слушателя. Вернее сказать, ее слушатель – всегда в предстоящем, не здесь.
Речь и письмо как способы взаимодействия с будущим – вот что еще только предстоит развернуть литературе и философии. Проблема, которая не просто не разрешится быстро, но которая еще даже не сформулирована, потому что сам базис для ее постановки только предстоит разработать. Если здесь, конечно, уместно говорить о «базисе» и «разработке». Да, сначала придется найти другой язык. Поразительно, но вся история литературы не сумеет указать хотя бы на одну серьезную попытку подобного рода. Впрочем, нет – в каком-то смысле это вполне логично.
Измерение времени, основанное на якобы равномерном движении Земли, якобы точные часы, отрегулированные по ее вращению. Измерение, зиждущееся на предположении об относительной равномерности бега, нежелании замечать скачки и остановки как его внутреннее свойство. Отсчитываемые циферблатными стрелками моменты не станут принимать никакого участия в этих подъемах и спадах. Расположившись во времени, даты не сольются с ним, а лишь будут дрейфовать на его волнах. Время техники: движение, якобы исчислимое при помощи указывания на цифры. Откуда, кстати, эта уверенность в том, что происходящее нужно назвать движением? Но события будут раз за разом подверстываться под новые, все более точные и аргументированные концепции, еще больше одержимые превратить время в историю, поместить прошлое в «современный контекст», готовые радоваться, что будущее тоже имеет отношение к этим связям, что из него тоже можно извлечь пользу, еще до того, как оно наступит. Здесь же рядом – опостылевший взгляд на время как на инструмент уничтожения, запыления, взросления, дряхления, старения, стирания, тирании, ранения, брани. Снова та же чрезмерная присвоенность бывшего и теперешнего, из-за которой настоящее продолжит пролетать мимо, потому что раз за разом будет обнаруживать себя как уже состоявшееся. Как нелепо, что то же самое они захотят проделать и с будущим – уверенно шагать в него, обустроить все ненаступившее, сделать непроизошедшее событие свершившимся, превратить его в территорию реализации планов, во что-то, чем можно будет распорядиться. И главная проблема здесь – как раз сам глагол «будет», вернее его утвердительная форма. Нет, предстоящее (противостоящее?) никогда не будет нам принадлежать. Оно не уместится в противопоставление покоя и движения. Оно надежно защищено от возможности измерения, у него нет никаких следов. Его так и не удастся захламить, несмотря на отчаянные старания. Оно слишком ненадежно, чтобы сгодиться на роль проекта, и как раз поэтому готово высветить ситуацию ускользания настоящего (во всех смыслах этого слова). Единственная территория, на которой удастся спастись от катастрофы рождения. Единственное настоящее. Нет, почти настоящее. И в этом «почти» затаится вся недосягаемость, вся безукоризненность будущего. Хотя, конечно, именно это тревожащее незнание останется и последней причиной цепляться за прошлое. И все бывшее тоже продолжит ускользать. Потому что незнание захватит нас неподготовленными. Потому что должно будет пройти много лет, прежде чем мы решимся. Присвоенность еще не раз заставит отвернуться от неосвоенного, неосваиваемого, незавершимого. (Это когда еще будет! Об этом и говорить пока рано! – Все эти невозможные, пустые фразы.) Склонившись над столами, счетоводы продолжат складывать ненужные дни и минуты, сверяться с пожелтелыми календарями, продолжат готовиться к завтра, пытаясь уместить его в жалкие каталоги бывшести, превратить его в накопление информации, подверстать его к архиву, продолжат совершенствовать способы исчисления, не переставая путать циферблат с компасом, забыв о масштабе того, что еще будет упущено. Грандиозное, будущее опоздание. Последняя, стоящая за секундами протяженность. Никогда не кончающаяся. Ничего не обещающая. Никуда не спешащая.

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте.
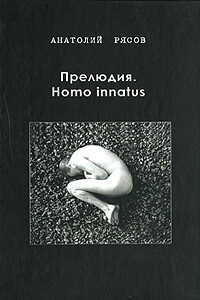
«Прелюдия. Homo innatus» — второй роман Анатолия Рясова.Мрачно-абсурдная эстетика, пересекающаяся с художественным пространством театральных и концертных выступлений «Кафтана смеха». Сквозь внешние мрак и безысходность пробивается образ традиционного алхимического преображения личности…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
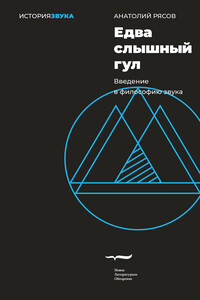
Что нового можно «услышать», если прислушиваться к звуку из пространства философии? Почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства, а чаще и вовсе не покидает территории техники? Эти вопросы стали отправными точками книги Анатолия Рясова, исследователя, сочетающего философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна «Мосфильм». Обращаясь к концепциям Мартина Хайдеггера, Жака Деррида, Жан-Люка Нанси и Младена Долара, автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноменологического дискурсов, но одновременно – как загадочные лакуны в истории мысли.
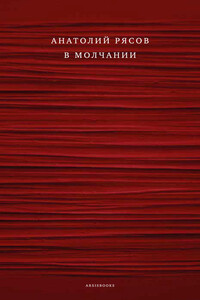
«В молчании» – это повествование, главный герой которого безмолвствует на протяжении почти всего текста. Едва ли не единственное его занятие – вслушивание в гул моря, в котором раскрываются мир и начала языка. Но молчание внезапно проявляется как насыщенная эмоциями область мысли, а предельно нейтральный, «белый» стиль постепенно переходит в биографические воспоминания. Или, вернее, невозможность ясно вспомнить мать, детство, даже относительно недавние события. Повесть дополняют несколько прозаических миниатюр, также исследующих взаимоотношения между речью и безмолвием, детством и старостью, философией и художественной литературой.

«Кто лучше знает тебя: приложение в смартфоне или ты сама?» Анна так сильно сомневается в себе, а заодно и в своем бойфренде — хотя тот уже решился сделать ей предложение! — что предпочитает переложить ответственность за свою жизнь на электронную сваху «Кисмет», обещающую подбор идеальной пары. И с этого момента все идет наперекосяк…

Бен Уикс с детства знал, что его ожидает элитная школа Сент-Джеймс, лучшая в Новой Англии. Он безупречный кандидат – только что выиграл национальный чемпионат по сквошу, а предки Бена были основателями школы. Есть лишь одна проблема – почти все семейное состояние Уиксов растрачено. Соседом Бена по комнате становится Ахмед аль-Халед – сын сказочно богатого эмиратского шейха. Преисполненный амбициями, Ахмед совершенно не ориентируется в негласных правилах этикета Сент-Джеймс. Постепенно неприятное соседство превращается в дружбу и взаимную поддержку.

Самое завораживающее в этой книге — задача, которую поставил перед собой автор: разгадать тайну смерти. Узнать, что ожидает каждого из нас за тем пределом, что обозначен прекращением дыхания и сердцебиения. Нужно обладать отвагой дебютанта, чтобы отважиться на постижение этой самой мучительной тайны. Талантливый автор романа `После запятой` — дебютант. И его смелость неофита — читатель сам убедится — оправдывает себя. Пусть на многие вопросы ответы так и не найдены — зато читатель приобщается к тайне бьющей вокруг нас живой жизни. Если я и вправду умерла, то кто же будет стирать всю эту одежду? Наверное, ее выбросят.

Однажды утром Майя решается на отчаянный поступок: идет к директору школы и обвиняет своего парня в насилии. Решение дается ей нелегко, она понимает — не все поверят, что Майк, звезда школьной команды по бегу, золотой мальчик, способен на такое. Ее подруга, феминистка-активистка, считает, что нужно бороться за справедливость, и берется организовать акцию протеста, которая в итоге оборачивается мероприятием, не имеющим отношения к проблеме Майи. Вместе девушки пытаются разобраться в себе, в том, кто они на самом деле: сильные личности, точно знающие, чего хотят и чего добиваются, или жертвы, не способные справиться с грузом ответственности, возложенным на них родителями, обществом и ими самими.

История о девушке, которая смогла изменить свою жизнь и полюбить вновь. От автора бестселлеров New York Times Стефани Эванович! После смерти мужа Холли осталась совсем одна, разбитая, несчастная и с устрашающей цифрой на весах. Но судьба – удивительная штука. Она сталкивает Холли с Логаном Монтгомери, персональным тренером голливудских звезд. Он предлагает девушке свою помощь. Теперь Холли предстоит долгая работа над собой, но она даже не представляет, чем обернется это знакомство на борту самолета.«Невероятно увлекательный дебютный роман Стефани Эванович завораживает своим остроумием, душевностью и оригинальностью… Уникальные персонажи, горячие сексуальные сцены и эмоционально насыщенная история создают чудесную жемчужину». – Publishers Weekly «Соблазнительно, умно и сексуально!» – Susan Anderson, New York Times bestselling author of That Thing Called Love «Отличный дебют Стефани Эванович.

Джозеф Хансен (1923–2004) — крупнейший американский писатель, автор более 40 книг, долгие годы преподававший художественную литературу в Лос-анджелесском университете. В США и Великобритании известность ему принесла серия популярных детективных романов, главный герой которых — частный детектив Дэйв Брандсеттер. Роман «Год Иова», согласно отзывам большинства критиков, является лучшим произведением Хансена. «Год Иова» — 12 месяцев на рубеже 1980-х годов. Быт голливудского актера-гея Оливера Джуита. Ему за 50, у него очаровательный молодой любовник Билл, который, кажется, больше любит образ, созданный Оливером на экране, чем его самого.