Предчувствие - [62]
Петр несколько раз перечитает письмо. Кое-что в этих фразах напомнит прежнего Никона, но будет и явная трещина, отделяющая нынешнее-будущее. Напишет ответ, заранее зная, что он не особенно воодушевит адресата. Врачи подтвердят, что навещать его бесполезно (да, Петр предаст его, поговорив с ними). После ухода Альмы стены жизни Никона окажутся до основания разрушенными, но в мире письма все останется почти по-прежнему. Сделаем вид, что это «почти» не так уж важно. Во всяком случае письмо останется единственным его способом связи (и одновременно окончательного разрыва) с жизнью. Обретет особую важность.
Петр вспомнит их последнюю встречу. В безлюдном, плохо освещенном книжном магазине. Обмен несколькими фразами. Как раз тогда – тщетная попытка Петра объяснить, что неспособность продумать важные для него вещи вовсе не обязательно признак их незначительности. Или даже не попытка, а так – робкое полумолчание. Взгляд Никона, еще не совсем потерянный, еще не окончательно смешавший поэтические эксперименты с засасывающей речью больничного пациента. А потом – сумрак улицы, надрезы дождевых линий, жадно проглатываемая темнота.
Наверное, они еще встретятся. Но значительно позже, через несколько безумий.
А пока все раз за разом станет проноситься перед глазами, новые болезни, новые убийства, новые несчастья, новые войны, новые лозунги, новые герои, новые ораторы, новые слушатели, новое непонимание, новые провалы, новая безвестность, новая тирания, новая демократия; поколения, каждое из которых продолжит считать себя последним, провозглашать неминуемость нового, неизбежность уничтожения старого, и самое последнее поколение ничем не будет отличаться от предыдущих, кроме лишь той мелочи, что после него действительно не будет потомства; засохшие осы, которые уже никогда не вылетят из мертвых, готовых в любую секунду рассыпаться ульев; глаза, которые никогда не раскроются; кулаки, которые никогда не разомкнутся; ноты, которым не суждено будет прозвучать; бокалы, которые никогда не будут выпиты; свечи, которые не зажгутся; голоса, которые не прервут стремительного молчания; свитки с заповедями, которые не будут прочитаны; ночи, которые не сгустятся; дни, которые не вспыхнут; дожди, которые не прольются; засухи, которые никого не изнурят; песни, которые не прозвучат; зубы, которые не заскрежещут; грязь, которая не затвердеет; гром, который никого не встревожит; пули, которые не встретят висков; бутоны, которые не распустятся; дворцы, которые не будут возведены; могилы, на которых никто не прополет траву; стихи, которые никогда не будут написаны; неделя за неделей, век за веком все эти осколки несуществования начнут еще неистовее нагромождаться друг на друга; от них нельзя будет спастись.
А вдруг сужающие круги падальщики и сияющие белые вестники – одно и то же? Вдруг все, что им нужно, – это вцепиться в чье-нибудь тело своими безжалостными костяными клювами? Откуда эта нелепая уверенность в том, что нужно подчиниться их призывам? Не время, снова покачает головой один из них. Что же им все-таки нужно? Зачем они продолжат приносить свои кольца, нити, серпы и свечи?
Звуки. Слова. Годы. Вышептывать их в темноту, в холод, в пыль. Сколько их еще будет, этих слов? Не его, так чьих-нибудь еще. Не действительных, так возможных. Не произнесенных, так молчащих. Горы, океаны, пустыни. Понадобятся они или нет? Какая разница? Лучше обманывать себя, что понадобятся, ведь все равно они нависнут чудовищной, зловещей, огромной тенью. Мы ничего не сможем поделать с ними. Продолжать вышептывать время, ничего больше. Нет ничего больше. Для нас. Для него. Еще три слова. Еще три года. Еще три пылинки. Мало-помалу скопится целая пригоршня пыли. Потом ветер снова развеет прах, и кто-то другой снова начнет собирать соринки. Продолжит строить величавые соборы пыли. И наверное, что-то наконец начнется. И наверное, что-то наконец получит возможность завершиться. Нет, вряд ли.
Итак, Петр успеет укрыться в своей каморке на последнем этаже. Да, мы изберем изысканный способ заточения нашего героя в комнату.
Часть четвертая. Комната
Эпизод двадцать первый,
попытка познакомить читателя с новой обстановкой
Продолжим.
Шуршание переворачиваемой страницы.
Петру снова семь лет. Детство выплеснется из подвалов памяти. Он попытается спрятаться в этом потоке, укрыться от взросления. Преуспеет в этом.
Теперь точь-в-точь как на тех старых слайдах, где все на своем месте и никто никогда не умрет. Сейчас он откроет глаза и побежит босиком по влажной траве, по ярко-желтым цветкам (Петр сочинит именно этот цвет), не боясь наступить на лакомящихся пыльцой пчел. В коротких шортах, в летней рубашке. С запутанным в волосах солнцем. Вслушиваясь в далекие вскрики птиц, в гул поездов, в ветер. Вдыхая поднимающийся от былинок сырой пар. Всматриваясь в раскачивающиеся вдалеке верхушки деревьев с белыми стволами. Их можно описывать бесконечно. Вот так: замедленные, повторяющиеся кадры плавных покачиваний, жуткие и красивые, предельно чужие и родные, с природой всегда так. Потом подойдет к забору (еще не сломанному упавшими от урагана соснами, да, этот пока не наступивший ирреальный день, когда деревья обрушатся прямо на глазах, но при этом не тронут его, давно взрослого, приехавшего туда спустя годы, не коснутся ни веткой, это случится не скоро, если вообще случится) и сквозь щели между досками понаблюдает за полем. Всего через год там произойдет одно событие, не такое уж важное, но оно запомнится. Они с соседским мальчишкой и его младшей сестрой (на всякий случай – речь, конечно, не об N и A, чтобы уж никому не ошибиться) будут играть в высокой траве, и к ним с какими-то глупыми издевками пристанут деревенские подростки, захотят прогнать, заставить бежать под их команды, а он безрассудно начнет драться с одним из них. Соседский мальчишка сразу удерет, как он позже будет уверять – за подмогой, но никто ему не поверит (хотя, если задуматься, в этом детском испуге не будет ничего особенно постыдного), а его младшая сестра еще долго будет считать Петра храбрецом, хотя геройство заключится лишь в том, что он получит несколько ударов в живот и упадет лицом в пыль. Никаких шансов победить в этом бою не будет, собственно, и в драку он вступит, попросту не успев осознать, какие опасности она посулит, и вполне можно представить эти воспоминания совсем иными, найдись тогда хоть одна минута на раздумье. Впрочем, и один из обидчиков, уходя, внезапно похвалит его за неуместную смелость. Или все же это какое-то неотменимое упрямство, ведь точно так же еще лет через десять неучтивый ответ какой-то шпане на темной загородной улице будет стоить ему пары стаканов крови (во всяком случае, так покажется), пролитой из носа на брюки. Снова это раздвоение на себя прошлого и себя будущего. Что еще он вышелушит из памяти? Что еще начнет роиться в его голове?

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
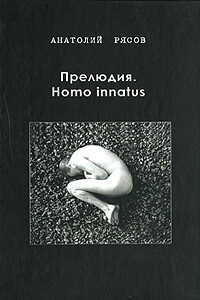
«Прелюдия. Homo innatus» — второй роман Анатолия Рясова.Мрачно-абсурдная эстетика, пересекающаяся с художественным пространством театральных и концертных выступлений «Кафтана смеха». Сквозь внешние мрак и безысходность пробивается образ традиционного алхимического преображения личности…
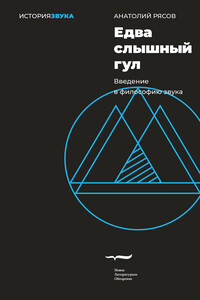
Что нового можно «услышать», если прислушиваться к звуку из пространства философии? Почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства, а чаще и вовсе не покидает территории техники? Эти вопросы стали отправными точками книги Анатолия Рясова, исследователя, сочетающего философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна «Мосфильм». Обращаясь к концепциям Мартина Хайдеггера, Жака Деррида, Жан-Люка Нанси и Младена Долара, автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноменологического дискурсов, но одновременно – как загадочные лакуны в истории мысли.
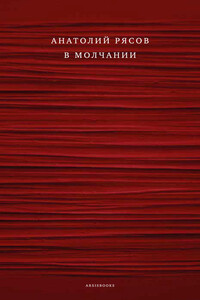
«В молчании» – это повествование, главный герой которого безмолвствует на протяжении почти всего текста. Едва ли не единственное его занятие – вслушивание в гул моря, в котором раскрываются мир и начала языка. Но молчание внезапно проявляется как насыщенная эмоциями область мысли, а предельно нейтральный, «белый» стиль постепенно переходит в биографические воспоминания. Или, вернее, невозможность ясно вспомнить мать, детство, даже относительно недавние события. Повесть дополняют несколько прозаических миниатюр, также исследующих взаимоотношения между речью и безмолвием, детством и старостью, философией и художественной литературой.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.
