Предчувствие - [63]
Но нет, не будет вымечтанных эпизодов, не будет никакой истории. Все выскользнет из пальцев, как растаявшее сновидение.
Семилетний мальчик поднимется по скрипучей лестнице и приоткроет заросшую плотной паутиной дверь. Какая чернота, какой контраст по сравнению с залитой светом, звенящей пчелами лужайкой! Все преувеличенно, словно в детском кинофильме. Все правильно. Отсутствие света уже почти перестанет пугать, ребенок войдет в непроглядную пыль и усядется на пол. Всмотримся и мы в эту густую темноту, попробуем различить очертания окружающих предметов. Их надломленные, затушеванные тенями контуры. Их линии, объемы, выпуклости. Как слова, готовые появиться на листе бумаги. Как вещи, которые вот-вот начнут что-то значить. («Сейчас скажу такую вещь» – почему-то подобные фразы он сразу почувствует как понятные, хотя продумает их гораздо, гораздо позже. Да, сказать можно не только слово, но и вещь. Даже теперь, после вроде бы полного разрыва связей между ними.)
Скоро, когда глаз свыкнется с черной пыльцой, так не похожей на ту, золотисто-цветочную, кое-что станет приметным, какие-то тусклые поблескивания. Да, вещи начнут проступать. Ничего особенного, просто старая мебель: шкаф, кровать, стол, два стула.
– Для кого второй?
– Неизвестно. Но не надо перебивать.
В темноте что-то сверкнет. Гораздо ярче, чем вещи. Чужой, пристальный, огромный глаз. Или нет, лучше никаких зеркал. Да, пусть здесь будет ничтожно мало вещей, пусть их описание не удастся растянуть даже на два абзаца. Неправда, Петр вполне сможет написать о них целый роман. Например, о дверной ручке, поцарапанной от частых ударов о стену, даже оставившей небольшую вмятину на потрескавшейся побелке. Будь она деревянной, не миновать ей трещин. А металлическая отделается лишь несколькими шрамами. Вмятина напомнит сморщенное старческое лицо. По вечерам дверная ручка будет отбрасывать тень, пририсовывая к смятой голове туловище. А сколько можно рассказать о пяти шагах, разделяющих узкое окно и дверь! Кстати, для ребенка их вовсе не пять, а целых десять. Их можно считать, загибая пальцы. Наверное, ему всегда так сильно будет хотеться пробежать это расстояние, что не найдется ни секунды, чтобы придержать дверь. Раз за разом этот удар об стену. Прекрасно слышный соседям. Ненавистный им. Отдающийся коротким эхом в их головах. И в его голове тоже. Как и звук двери, захлопывающейся через секунду из-за сквозняка. Привычный, как темнота. Новые и новые морщины на настенном портрете. Интересно узнать, сколько шагов здесь насчитает старик. Но нет, конечно, Петр не напишет об этом ни слова. Как и романа о дверной ручке.
– Сильно ли будет могила отличаться от этой комнаты?
– Да. Во-первых, вещей там обычно еще меньше. Во-вторых, не важно. Прекратите задавать вопросы.
Впереди еще примерно столько же, сколько позади, или даже немного больше. Неужели это просто конец еще одной «серии»? И теперь – еще одно будущее, в которое ему предстоит упасть. С какой стати называть его «остатком»? Вдруг впереди окажется еще столько же? Возможно ли? Не удастся продумать, понять это. Останется лишь повторять. Бессчетное количество раз. Пока не наступит день, означающий, что две трети, три четверти, четыре пятых уже точно позади. Что бесконечный путь от двери до окна почти пройден. Или что он так и останется почти пройденным.
– Ты умрешь здесь?
– Не стану отвечать.
И все же как описать эту комнату? Начнем с четырех стен. Какая из них покажется самой чужой? Та, что с дверью? Или та, что с окном? Нет, не сейчас. Никогда. Не нужно продолжать эту чепуху. Да, он вернется сюда. К пяти или десяти шагам (чтобы сказать точнее, нужно знать, о каком возрасте пойдет речь, а это пока не ясно). Вечером. Или утром. Без разницы. В пыльную пустошь. В помещение с окном и дверью, стулом и кроватью, полом и потолком, шкафом и зеркалом, тишиной и тишиной. Нет, все же лучше без зеркал. Конечно же, никаких картин, фото, тем более часов на стене. Об этом и речи нет. А о зеркале еще можно подумать. Пожалуй даже, без него не обойтись. Итак, вернется. Уже не пытающийся разобраться в том, что никак не начнет происходить. Изнуренный, бездумный, положит голову на стол и уснет. Или будет корчиться на полу. Наверное, уже не в Столице. Нет, конечно, мы не расскажем, что это за келья (камера, купе, каюта, ковчег). Время и место нам неизвестны.
Широко раскрытые глаза и темнота. Этого вполне достаточно, как и одной временнóй категории – дисциплинирующего ограничения, от которого мы ни за что не откажемся. Точно так одна точка или одна линия никогда не станут проще самого изощренного чертежа. Все главные вопросы сохранят свою значимость. Все главные вопросы сохранят свою значимость. Точно так одна точка или одна линия никогда не станут проще самого изощренного чертежа. Этого вполне достаточно, как и одной временнóй категории – дисциплинирующего ограничения, от которого мы ни за что не откажемся. Широко раскрытые глаза и темнота.
Время замедлится. Будет как-то по-особенному спрессовано. Звуки станут падать и растекаться под ногами, исчезать. Комната вместит тишину, приобретет форму покоя, продолжит наслаивать одно молчание на другое, разом утверждая всевластие и зыбкость немоты. Будет что-то жуткое в этой темноте, прячущей все, чем тебе никогда не удастся стать. Здесь сожмется мир. Вещи тоже почувствуют это. Внезапно рубашка на стуле раздуется от неслышных порывов ветра, расправит складки, превратится в парус. (Отчего так? Окно же будет закрыто.) Нужно попытаться встать, отыскать градусник, чтобы измерить температуру. Столь же быстро угомониться. Вот так: быть на границе собственного исчезновения. Без напряжения, без глубины. Но и без спокойствия, без осязаемых контуров. В безмятежной, плотной тревоге. В пустоте, белизной блеклого цветка распускающейся в груди. В оставленном далеко впереди будущем. Попытаться прожить так называемую вторую половину без устремленности в прошлое – так же, как в детстве. Нет, не совсем так. Совсем не так. Это просто еще одна лишняя фраза. Почти лишняя. Да, исполнить это обещание будет непросто. Продолжим думать и не думать об этом.

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
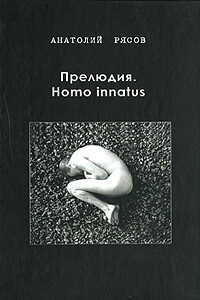
«Прелюдия. Homo innatus» — второй роман Анатолия Рясова.Мрачно-абсурдная эстетика, пересекающаяся с художественным пространством театральных и концертных выступлений «Кафтана смеха». Сквозь внешние мрак и безысходность пробивается образ традиционного алхимического преображения личности…
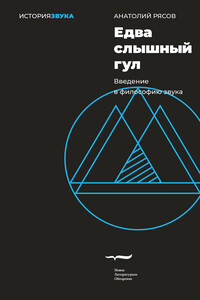
Что нового можно «услышать», если прислушиваться к звуку из пространства философии? Почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства, а чаще и вовсе не покидает территории техники? Эти вопросы стали отправными точками книги Анатолия Рясова, исследователя, сочетающего философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна «Мосфильм». Обращаясь к концепциям Мартина Хайдеггера, Жака Деррида, Жан-Люка Нанси и Младена Долара, автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноменологического дискурсов, но одновременно – как загадочные лакуны в истории мысли.
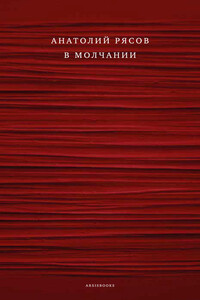
«В молчании» – это повествование, главный герой которого безмолвствует на протяжении почти всего текста. Едва ли не единственное его занятие – вслушивание в гул моря, в котором раскрываются мир и начала языка. Но молчание внезапно проявляется как насыщенная эмоциями область мысли, а предельно нейтральный, «белый» стиль постепенно переходит в биографические воспоминания. Или, вернее, невозможность ясно вспомнить мать, детство, даже относительно недавние события. Повесть дополняют несколько прозаических миниатюр, также исследующих взаимоотношения между речью и безмолвием, детством и старостью, философией и художественной литературой.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.

Истории о том, как жизнь становится смертью и как после смерти все только начинается. Перерождение во всех его немыслимых формах. Черный юмор и бесконечная надежда.

Проснувшись рано утром Том Андерс осознал, что его жизнь – это всего-лишь иллюзия. Вокруг пустые, незнакомые лица, а грань между сном и реальностью окончательно размыта. Он пытается вспомнить самого себя, старается найти дорогу домой, но все сильнее проваливается в пучину безысходности и абсурда.

Книга посвящается 60-летию вооруженного народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. В произведениях известного болгарского писателя повествуется о видных деятелях мирового коммунистического движения Георгии Димитрове и Василе Коларове, командирах повстанческих отрядов Георгии Дамянове и Христо Михайлове, о героях-повстанцах, представителях различных слоев болгарского народа, объединившихся в борьбе против монархического гнета, за установление народной власти. Автор раскрывает богатые боевые и революционные традиции болгарского народа, показывает преемственность поколений болгарских революционеров. Книга представит интерес для широкого круга читателей.
