Предчувствие - [61]
Або: Нет, нет, не буду больше вас запутывать, а то вы, чего доброго, превратитесь в его адвоката. Между ним и Альмой, конечно, очень мало общего, лучше скажу – ничего. Это сравнение вообще случайно. Мне зачем-то захотелось поиграть в платоновские диалоги. Все намного проще. Здесь речь всего-навсего о лжи, так и не превращенной в литературу. Вопреки всем стараниям. Перед нами отчаянная неспособность осознать неосуществимость замысла. Вот здесь и надо искать фундаментальную разницу между болтуном и писателем. Еще это принято называть отсутствием таланта. (В сторону.) Хотя, наверное, я все-таки слишком жесток к нему. (Пауза.)
Затем разговор продолжится. Но мы его не услышим. Впрочем, все будет крутиться вокруг одного и того же. Петр будет чувствовать себя ребенком, из-под ног которого выбита табуретка. Мальчишкой, лежащим на полу и пытающимся вспомнить, к чему ему это несостоявшееся карабканье на табурет. Чтобы дотянуться до верхней полки? Рассказать собравшимся вызубренное стихотворение? Ощутить себя высоким, взрослым? Дотянуться до стоп Бога?
Когда они наконец соберутся уйти, официантка попросит об одном одолжении. Протянув им разрезанную пробку, произнесет:
– Пожалуйста, это наша традиция. Напишите с наружной, округлой стороны пробки свое имя, а на внутренней, ровной – самую сокровенную мечту. Обещаем, что мы никому не расскажем, а сразу приклеим пробки к одной из колонн. И тогда ваша мечта точно исполнится.
Колонны и многие стены в этом маленьком кафе действительно будут покрыты половинками винных пробок. Отчего это только теперь бросится в глаза? Ксоврели сразу же одобрит эту мещанскую затею (к чему расстраивать незнакомку?) и не задумываясь запишет какую-то мимолетную ерунду на разрезанной закупорке. Петр поколеблется и наконец тоже нацарапает. На месте мечты будет – «Забыть об истории». А на округлой части – «Петр Алексеев». Из-за выпитого вина это покажется ему коротким, почти совершенным литературным текстом, вернее даже – художественным объектом. Ксоврели спросит:
– Вам известно, где его могила?
– Да.
– Отлично, не говорите мне.
Лишь только они выйдут на улицу и попрощаются (врач скроется в темноте, насвистывая мотивчик из Девятой симфонии Дворжака), Петр осознает, что злосчастная запись на пробке – жалкое посмешище, нечто похожее на выдумку первого Ксоврели, и ему станет безнадежно стыдно. Стыдно перед Альмой. Вернувшись в комнату, он войдет в подаренный ею офорт, в его дымчатую желтизну. Как в прозрачный водопад. Как в дождь. Как в безветрие. Притаится рядом с размытыми пятнами, сольется с белесыми силуэтами в самом уголке. Войдет в ее образ, в ее сон. Да, приснится ей напоследок. Заметит, как она навсегда исчезнет в дымке собственной картины. Где-то там, где почти все откажется существовать. И вдруг подумается, что ее исчезновение – это их общее дело. Дело, объединяющее его с ней едва ли не больше, чем все их предыдущее общение. Как будто только через это исчезновение и способна стать заметной их близость. И конечно, это сродство поставит все под вопрос, выбьет из-под ног последнюю опору, лишит любого грядущего. Исчезнув, она узнает что-то, что уже не сможет передать ему. Опыт, которым он все еще не будет обладать. Впрочем, так всегда с мертвыми. Но с ней – особенно чутко. Вернее, зов донесется, но будет непереводим. Как найти в этом доживании место для будущего?
И внезапно появится ответ: полагаться на грядущее, не изменять ему, ничего не ожидая – ни хорошего, ни плохого. Попытаться быть с будущим не только (как прежде) в веселье и беззаботной дури, но не бросить его и в безнадежности, в ужасе. Все ближе подступать к Богу, поклявшись не поверить в Него. Вот чем он теперь займется. И письмо должно стать легким. Но не как прогулка, а как смерть. Нет, он не испугается патетики.
Эпизод двадцатый,
он расскажет о крушении
Чтобы избавиться от сомнений, прочтем это письмо. На этот раз – необязательно вслух.
Сложно не перепутать пятерку и шестерку. Они ведь и правда чертовски похожи. В чем-то даже больше, чем девятка и шестерка, тем более – пятерка и двойка. Как знать. Аристократическое вопрошание. Не чурающееся нищеты. Алчущее ее. Без лицемерия. Без рисовки. Без декадентства. Без фиги в кармане. Без безумия. Это важно – без безумия. Лишь с долей беспечности (что, к слову, не столь уж приятно). Так вот, настаивая на отличии, мы только усугубим неистовую схожесть. Усилим же эту мысль. Прокричим ее в мегафон. Или хотя бы сложим ладони рупором. Усугубим мысль вместо того, чтобы усиливать ошибку. Впрочем, ошибка и мысль всегда будут связаны сильнее, чем принято думать. Кстати, не синонимы ли это? Можно даже предположить, что пятерка – не более чем плохо пропечатанная шестерка. Что речь вообще должна идти об одной и той же цифре. Похожие отношения у тройки с восьмеркой. Скажем, между женским и мужским сумасшествием намного бóльшая разница. Хотя так вроде бы не принято считать. Но они абсолютно разные. Я смогу курировать отдел гендерных исследований, как только возникнет необходимость. Наверное только, это произойдет не скоро. И на приглашение я отвечу отказом. Откуда эта наша любовь к заштопыванию пропастей? С другой стороны, разница между мещанским и интеллектуальным безумием во много раз больше. С какой сеткой лучше подойти к этому – с классовой, с расовой, с массовой? Или вот не менее интересная перспектива: с таким же успехом можно открыть кафедру изучения цифровых палиндромов на экранах часов. Особенно интересны среди этих перевертышей те, что не станут меняться, даже отразившись в зеркале. 10:01, к примеру. Да, наверное, я еще напишу монографию на эту тему. Но вернемся к мыслительным ошибкам. Кстати сказать, пресловутый премиальный костер нельзя определить иначе, как досадную оплошность. Ведь нет ничего нелепее, чем возомнить возможность игры сил и энергий там, где любая импровизация будет воспринята исключительно в качестве средства донесения некоего сообщения и потому предстанет как дурацкое фиглярство. Идея самосожжения будет здесь воспринята как нечто вроде выливания себе на голову кетчупа. К чему же это мое появление там? Сам не пойму, какое-то необайройтское помутнение, наверное. Но вот что. Не надо навещать меня. Не надо думать, что я выйду на порог с потерянной, виноватой, грустно-ехидной, какой угодно улыбкой. Мол, вот оно как. Так и знай, не будет ничего подобного. И без того слишком много незнакомцев, выдаваемых этим говном за моих друзей. Имей в виду, мне нет дела ни до одного из них. Все это их шпики, тут можно не сомневаться. Так что добро пожаловать, только если появится желание стать одним из них, влиться в гнидно-навозные ряды. В общем, лучше пришли на мое имя посылку. Я смогу сделать так, что ее не вскроют посторонние руки. Тебе ничего не будет угрожать. К тому же мои небольшие просьбы не доставят много хлопот. Блок сигарет, пачку жевательных резинок, побольше шоколада, печенья, орехов, лучше раздели все это на части и заверни в фольгу, тогда я смогу быстро попрятать свертки в разных местах. Еще купи несколько бутылок лимонада и любыми способами раздобудь наркотики. Желательно опиум или мескалин. Это все. Хотя нет, еще ведь нужна одежда. Понадобятся лакированные ботинки, хороший костюм и пять галстуков (по одному на каждый будний день). Пена для бритья, по возможности итальянская. Или разыщи гель для трехдневной щетины. Перьевые ручки. Первое французское издание Пруста (достань через своих пронырливых писак хотя бы третий том). Фрукты, конечно. Голубику, манго, гранаты. Сирийскую пахлаву, японское мороженое, профитроли (шутка). Армянское вино, текилу (если не сложно). Оливковое масло, соевый соус, горчицу (не помешает). Но сначала обязательно напиши. Сходи на могилу Альмы, подробно обрисуй мне все происходящее там. И сперва прополи траву, дикие цветы (шиповник тоже наверняка понадобится усмирить), подмети плиту, вымой ограду и камни (слава богу, там нет стола). Конечно, все это надо бы сделать мне самому, но для тебя не секрет, что эти твари меня туда не отпустят. Напиши мне, обязательно напиши. Лучше начни письмо так же, как и я, с чего-нибудь «странного». Достаточно буквально десятка фраз. Они прочтут их и, споткнувшись, не смогут продвинуться дальше. Не сомневайся, так оно и будет. Уж поверь, они абсолютно безграмотны, эти горе-текстологи. Вот как в бытовом плане люди готовы интересоваться сумасшедшими, ну, скажем, рассказать в подробностях о случайной встрече с ними, притихнуть, если псих начнет кричать на весь автобус, потихоньку следить за чудаковатыми прохожими, но вот погружаться в их мышление, пытаться понять их – на это уже мало кого хватит. А стучаться в последнюю закрытую дверь – тут желающих и вовсе не найдется. Но, кстати, написанное про пятерку и шестерку – это не просто чепуха для отвода их глаз. Мне действительно интересно твое мнение на этот счет. Ответь, пожалуйста. Да, начни с ответа. А потом уже переходи к самому главному. К описанию могилы и другим новостям. Ведь появятся, наверное, новости? Не буду обещать, что меня они особенно заинтересуют, но и не стану отказываться их выслушать. К чему подобное высокомерие? Но нелишним будет признаться, что антагонизм между нами, скорее всего, начнет все больше расти, а не уменьшаться. Вполне возможно, что незначительное сходство между нами уже в ближайшие месяцы развеется как миф. И хотя ближе тебя у меня все равно никого не найдется, эти твои идеи о «будущем длении звука» и тому подобном (всего не припомнишь, да и обстоятельства не те, уж прости), нет, я не готов принять их. Или даже заострю углы. Говоря прямолинейнее, они обречены на то, чтобы остаться пустой софистикой. Пойми, записанный звук – это след, это воспоминание об уже исчезнувшем. Можно сколько угодно пытаться себя обмануть, но настоящее здесь всегда становится отправной точкой для прошлого. О будущем и говорить нечего. Для него здесь в принципе нет места. Вся эта болтовня о будущем как о чем-то, подстрекающем реальность к появлению, – не надо говорить, что эти вещи пока тобой не продуманы. Их не удастся продумать. Они неверны. Мысль – это память. Она не способна предшествовать опыту, быть сначала записанной, а потом произойти. Это элементарно: ὕστερον πρότερον. Точка. Довольно об этом. Да, общение с помощью писем теперь будет наиболее правильным. Оно вообще справедливее. И безопаснее к тому же. Поэтому медики на него почти не способны. Вот что: ни при каких обстоятельствах не вздумай доверять врачам. Все их шприцы, бинты и капельницы – это средства умерщвления. Пациенты для них – что-то вроде оборудования, готового к списанию. И, якобы намереваясь утилизировать сломавшиеся приборы, на самом деле они примутся разбирать их на части, что еще подлее. Сначала тайком, потом с неслыханной наглостью. Излечение, конечно, тоже не более чем деталь общей схемы умерщвления. Меньше всего им нужно рождение нового тела. Поэтому они и не станут препятствовать строительству храмов на территории лечебниц. Но их храмы выдадут себя нестерпимой вонью, ощутимой за километры. Она вступит в химическую связь со смрадом лекарств. Вот мое тебе предостережение. Знай, врачи и священники заодно. У них гной вместо глаз. Главное – научиться сопротивляться и тем и другим. Научиться лгать им. Имей в виду: все покоящиеся здесь – их агенты. Все эти так называемые соседи по палате (тоже мне титул) – не кто иные, как подсадные утки. Боже, как же они тупы, им никогда не научиться играть безумных. И не подумаю вступать в диалог ни с одним из них! Впрочем, они наверняка скоро умрут, и это вполне в духе навязываемой здесь идеологии жертвенности. В действительности они уже мертвы. Запомни: нельзя верить никому из них. Даже их тени – это настоящие проклятия. Их промшелое шушуканье. Его оболок. Вся эта сыпучая сухая земля не наговоренных ими слов. Как блеск гнилых факелов, как гигантский лемех крыла дохлой неясыти. Выколдовываемый блевотой. Хотя и метафоры так же тошнотворны. Но самое невыносимое здесь – это, конечно, необходимость жить бок о бок с ними. Мое упрямое молчание подозрительно для них, оно как ядовитый газ, распыляющийся по здешним коридорам, удушающий их своей неминуемой плотностью. Уверен, рано или поздно мое помалкивание выкурит их отсюда. Если только больничный смрад не прикончит меня раньше. Да, эта удушающая вонь, которую ты почувствуешь, едва переступив порог здешнего предбанника, от нее никуда нельзя скрыться, от затхлой атмосферы психушки. Здешние стены навеки останутся пропитаны этим сдавленным воздухом, объединяющим врачей и пациентов. И для тех и для других нет более жуткого святотатства, чем проветривание помещений. Уже только из-за этой вони я не пожелаю никому оказаться здесь. Впрочем, скоро исчезнет все успевшее стать знакомым. В маслянистых лужах отразятся дула автоматов, забрызганные грязью сапоги и желтоватые зубы, грызущие воротнички гимнастерок. В разрастающейся ржавчине с остервенением будут сражаться насекомые. От лая собак начнет закладывать уши. По вечерам, после сгущения теней, сонные полицейские как по команде станут испаряться с улиц, впрочем и в светлое время суток они предпочтут греться во дворах – вокруг костров, разведенных из обломков старых ящиков, вот так будут сидеть сложа руки, а не патрулировать заполненные преступниками дворы. Хлопья сажи, вздымаемые ветром. Клочки мусора. Перевернутые грузовики, распространяющие запах жженой резины. Полуразвалившиеся трибуны дряхлого стадиона станут похожи на амфитеатр, приглашающий зрителей на новое, еще более странное зрелище. Город сбросит шкуру и рассыплется на бесформенные жидкие куски. Что и говорить, в Столице станет опасно находиться. Вооруженные проходимцы, вместо военной формы выряженные в грязные дубленки, почем зря будут присваивать автобусы, автомобили, даже велосипеды. При этом у лачуг с обвалившимися крышами нередко будут парковаться лимузины, ожидающие самоуверенных мачо и матрон в норковых шубах (довольно скоро беспорядочные автоматные очереди сотрут с их лиц гонор). Участятся кражи детей, пустят слух, что их воруют для утоления голода. Но бесстрашные ребятишки не перестанут рисовать какие-то знаки на бетонных, наполовину захваченных мхом и голубоватыми грибами заборах. Дожди превратят написанные углем послания в причудливые орнаменты. Они изящно дополнят размытые надписи на выщерблинах асфальта, но все же не утратят ореола тайного языка. Тут же рядом ветер заколышет обрывки рекламных и политических плакатов (отличить их друг от друга будет еще сложнее, чем раньше). Рядом с листовками глаз различит объявление «Купим волосы». Невольно захочется удлинить фразу: «Купим волосы, ногти и дерьмо» (магнитофон зажует пленку с закадровым смехом). Разруха начнет побеждать, отвоевывать рубеж за рубежом. Люди, еще недавно казавшиеся благоразумными, захлебнутся в мерзком, квакающем гоготе. Конечно, многие попытаются сбежать. Далеко не всем это удастся. Но в вязкую темноту по размытым дорогам (если еще будут дороги) устремятся сотни повозок. Телеги с беспорядочно наваленными тюками; хнычущие голоса; ничего не выражающие, словно вырезанные из картона лица. Они потащат с собой все, что успеют собрать: все, что покажется ценным. В большинстве случаев это будут смятые, застиранные, разодранные тряпки и обгоревшие простыни, годные разве что на создание веревочных канатов – тех, что в приключенческих романах принято использовать для побега из заточения. Да, это самое подходящее сравнение. Хотя и дрянное. Вот только канаты эти окажутся удивительно ненадежными, они то и дело будут рваться, обрекая беглецов на гибель. Раз за разом все те же монотонные причитания. Даже в брани и раздражении послышится тщетная жалобность. Полуживые, унизительно застывшие между республиками живых и мертвых, почти прозрачные силуэты потянутся под нескончаемым, нудным дождем. В водяной, маслянистой пыльце. Жалкие даже в своей беспомощной ярости. Кутая хнычущих детей в платки, пытаясь согреть дыханием оледеневшие ладони, они будут идти, из последних сил держась друг за друга, падая и пытаясь подняться. Поверните вслед за ними за угол обшарпанного здания, и вы увидите, что у них не хватит сил пройти и километра по шоссе. Надо ли уточнять, что правительство утратит контроль над ситуацией? Пока военные и бандиты (если сделать вид, что в этом противопоставлении сохранится смысл) будут уплотнять кровавую кашу, политики продолжат рассуждать о недопустимости слишком резких мер, стараясь обходить темы беззаконных уличных расстрелов и нескончаемых изнасилований, тем временем священники помолятся перед телекамерами за невинно усопших, а президент (многие посчитают его двойником давно сбежавшего за рубеж правителя) ежедневно будет повторять призывы к нации о необходимости примирения – впрочем, через какое-то время телевизионщики перестанут делать вид, что это прямой эфир, а не очередной монтаж, слишком уж очевидными станут запинки на одних и тех же фразах, не говоря о неменяющемся костюме и даже галстуке спикера. На всякий случай тревожные новостные сводки будут перемежаться прошлогодними спортивными репортажами и передачами о животных (сложно представить, что еще останется кто-то, на кого эти уловки способны будут подействовать). Между тем ситуация полностью выйдет за предсказуемые рамки. Неизвестные головорезы станут швырять налево и направо бутылки с зажигательной смесью и гранаты, не щадя раненых и даже мертвых. Город станет все больше напоминать гримерный цех огромной киностудии, демонстрирующей недюжинные способности в изображении трупов. Окровавленные саваны перестанут кого-либо удивлять. И еще этот невесть откуда раздающийся звон колокола. Похожий на зловещий смех. Расстроенные животы не отменят чувство голода. Но питаться люди теперь будут чем придется. Кошки, крысы, вороны, змеи – все пойдет в готовку. К этому моменту не останется даже ни одного несъеденного муравья. Настоящим поварским искусством станет салат из травинок: выступающие из мокрой земли ростки будут срезать раньше, чем они успеют налиться соком, а размякшие катышки глины заменят брынзу. Свертки коричневых листьев всерьез начнут именовать мидиями, грязную воду – лимонадом, а плавающие в нем отбросы – зернышками маракуйи. Гурманы станут поедать слипшиеся сосновые иголки, облитые остывшим пометом ворон, белым, как вываренная куриная кожа. Найдется место и для десертов: посасывания волокон яблоневой коры и разгрызания заплесневелых желудей (они придут на смену засахаренному миндалю). Курильщики успокоят себя самокрутками из бересты, набитыми обрывками пропитанного собачьей мочой сена. В какой-то момент люди наконец перестанут стесняться употребления в пищу друг друга. Важное дополнение: единственным убежищем останутся квартиры. Да, непонятно, суеверная военщина не решится трогать здания. Частная собственность немного сохранит свою неприкасаемость. Вот она – незыблемая сила идеологии! Поэтому и мародеры не решатся на серьезные грабежи. Внутренний императив помешает. Пострадают инкассаторы, но не банки, уличные торговцы пирожками, но не пекарни, рынки, но не магазины. Примечание: с самого начала этот негласный закон не будет распространяться на кладбища – солдатня и повстанцы будут неустанно глумиться над склепами, могилами и памятниками. К слову сказать, достанется и катафалкам. Ритуальные услуги полностью утратят смысл. При желании в этом можно будет найти своеобразную логику. Практически на глазах несчастных, готовых отдать любые деньги (кому они теперь будут нужны!) за шашлык из кошки, владельцы кондитерских будут обжираться запасами зефира. Но тот, кто под открытым небом не станет жалеть даже родственников, окажется скован страхом при одной мысли о том, чтобы взломать дверь в чужую квартиру. Какое странное табу. Конечно, ни для кого не будут сюрпризом скелеты – полураздетые последними, чудом оставшимися в живых стервятниками. Кому-то еще повезет раскроить их крылья. Но вот тебе главная новость. Это сон, который наверняка повторится и сегодня ночью. Впрочем, вполне возможно, что тебе он не покажется таким уж жутким. Но для меня нет ничего хуже. Постарайся понять это. Так вот, опять приснится, что мои волосы заплетены в стоящие торчком пучки с залысинами между ними. И все какое-то липкое, словно облитое лаком. Какие-то еще прищепки на голове, что ли. Я подойду к зеркалу, чтобы разглядеть, чтó со мной, и, обхватив голову руками, медленно подниму глаза к стеклу. И тут самый сокровенный, кошмарный миг. Прическа и правда как у мертвого клоуна, но это уже не важно, потому что вместо моего лица в зеркале покажется лик Альмы. Обхватив голову руками, она засмеется, а мне захочется закричать, но дыхание застрянет в горле, и наружу вырвется лишь сдавленная, мучительная тишина. Словно беззвучное чувство вины за то, что не смогу сберечь могилу сестры от мародеров. Ее хохочущее, звенящее отражение и мой неудавшийся крик, это будет продолжаться, пока я не проснусь. Бесконечно, бесконечно долго. Уверен, они постараются сделать все, чтобы пробудить во мне ненависть к ней, но я не сдамся. Как божок по душе босыми ножками пробежит? Время идти домой.

«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
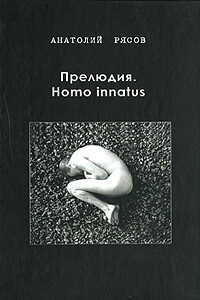
«Прелюдия. Homo innatus» — второй роман Анатолия Рясова.Мрачно-абсурдная эстетика, пересекающаяся с художественным пространством театральных и концертных выступлений «Кафтана смеха». Сквозь внешние мрак и безысходность пробивается образ традиционного алхимического преображения личности…
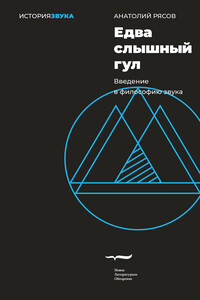
Что нового можно «услышать», если прислушиваться к звуку из пространства философии? Почему исследование проблем звука оказалось ограничено сферами науки и искусства, а чаще и вовсе не покидает территории техники? Эти вопросы стали отправными точками книги Анатолия Рясова, исследователя, сочетающего философский анализ с многолетней звукорежиссерской практикой и руководством музыкальными студиями киноконцерна «Мосфильм». Обращаясь к концепциям Мартина Хайдеггера, Жака Деррида, Жан-Люка Нанси и Младена Долара, автор рассматривает звук и вслушивание как точки пересечения семиотического, психоаналитического и феноменологического дискурсов, но одновременно – как загадочные лакуны в истории мысли.
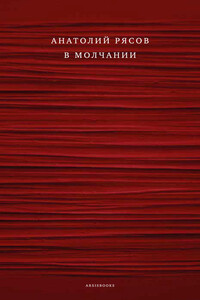
«В молчании» – это повествование, главный герой которого безмолвствует на протяжении почти всего текста. Едва ли не единственное его занятие – вслушивание в гул моря, в котором раскрываются мир и начала языка. Но молчание внезапно проявляется как насыщенная эмоциями область мысли, а предельно нейтральный, «белый» стиль постепенно переходит в биографические воспоминания. Или, вернее, невозможность ясно вспомнить мать, детство, даже относительно недавние события. Повесть дополняют несколько прозаических миниатюр, также исследующих взаимоотношения между речью и безмолвием, детством и старостью, философией и художественной литературой.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Держать людей на расстоянии уже давно вошло у Уолласа в привычку. Нет, он не социофоб. Просто так безопасней. Он – первый за несколько десятков лет черный студент на факультете биохимии в Университете Среднего Запада. А еще он гей. Максимально не вписывается в местное общество, однако приспосабливаться умеет. Но разве Уолласу действительно хочется такой жизни? За одни летние выходные вся его тщательно упорядоченная действительность начинает постепенно рушиться, как домино. И стычки с коллегами, напряжение в коллективе друзей вдруг раскроют неожиданные привязанности, неприязнь, стремления, боль, страхи и воспоминания. Встречайте дебютный, частично автобиографичный и невероятный роман-становление Брендона Тейлора, вошедший в шорт-лист Букеровской премии 2020 года. В центре повествования темнокожий гей Уоллас, который получает ученую степень в Университете Среднего Запада.

Яркий литературный дебют: книга сразу оказалась в американских, а потом и мировых списках бестселлеров. Эмира – молодая чернокожая выпускница университета – подрабатывает бебиситтером, присматривая за маленькой дочерью успешной бизнес-леди Аликс. Однажды поздним вечером Аликс просит Эмиру срочно увести девочку из дома, потому что случилось ЧП. Эмира ведет подопечную в торговый центр, от скуки они начинают танцевать под музыку из мобильника. Охранник, увидев белую девочку в сопровождении чернокожей девицы, решает, что ребенка похитили, и пытается задержать Эмиру.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.

Журналистка Эбба Линдквист переживает личностный кризис – она, специалист по семейным отношениям, образцовая жена и мать, поддается влечению к вновь возникшему в ее жизни кумиру юности, некогда популярному рок-музыканту. Ради него она бросает все, чего достигла за эти годы и что так яро отстаивала. Но отношения с человеком, чья жизненная позиция слишком сильно отличается от того, к чему она привыкла, не складываются гармонично. Доходит до того, что Эббе приходится посещать психотерапевта. И тут она получает заказ – написать статью об отношениях в длиною в жизнь.